Но я продолжал думать обо всем этом, и о Сидни Фицрой, – и однажды меня вдруг осенила мысль: все ноты, какие я видел в тот день в кладовой, были для женского голоса. Сидни Фицрой могла быть женщиной! Это долго не приходило мне в голову, и пришло потому, что во мне мелькнула другая мысль. Один человек в редакции как-то рассказывал о временах, когда старое «Тиволи» было в большой моде, о том, как ставились там оперетты Жильберта и Сюлливана, и «Великая Герцогиня», и прочее, и я подумал: где же я слышал или видел все эти названия? Это было, когда мы все беспокоились о вас и пытались вас искать.
Я пошел в «Тиволи», – теперь там кинематограф, – и мне сказали, что одна старая певица, Роза Мэссон, двадцать два года служила в «Тиволи» и у нее все можно узнать. Я взял адрес, побывал у нее и спросил, не слышала ли она когда-нибудь о сопрано по имени Сидни Фицрой.
Она сказала, что среди солисток такой не было, но всех певиц из хора она не помнит. Она помнила Грэси Плэйстед и Анну Лерер и Тилли Сэллинджер, но в хоре столько прошло девушек за это время, где же всех упомнить. Но она дала мне просмотреть ее программы за те годы, и я нашел среди хористок Сидни Фицрой, сопрано. Это имя встречалось в программах 1900 года и только на протяжении восьми-девяти месяцев. Но та Сидни Фицрой, о которой говорилось в завещании старого Чоэта, не могла петь в оперетте в 1900 году! Чоэт умер в 1912 году, пятидесяти трех лет от роду. Не мог же он в сорок один год быть отцом профессионалки-певицы, не правда ли?.. То были две разные Сидни Фицрой.
Я рылся в старых телефонных книгах, в справочниках. Никакого следа! И вот в один прекрасный день, вспомнив, что ваша мать, то есть сеньора, упоминала о старой Миссии, я отправился искать в книгах старой Миссии Долорес, в Сан-Франциско, и там я нашел запись о крещении 23 декабря 1900 года Сидни Фицрой, причем было отмечено, что отец умер, мать – Сидни Фицрой, восприемница – Мария Эспиноза.
– Но потом… потом… – торопила Жуанита – что вы узнали еще?
– Потом я пошел к миссис Чэттертон. Вас тогда уже не было в доме. Я сказал ей обо всем, что узнал, и предупредил, что, если она не поможет мне распутать это дело до конца, я передам его в руки сыщика. И она немедленно рассказала мне все. Она, по ее словам, знавала Сидни Фицрой и могла доказать это, в случае оспаривания завещания, фотографиями и письмами. Она и сеньора были подругами вашей матери. Сеньора, бездетная и немолодая, взяла вас, когда вам было две недели. Это она настояла на крещении и дала вам имя вашей матери. Из краткого, по-видимому, письма вашей матери, Чоэт почему-то и сделал вывод, что родился сын. Миссис же Чэттертон, не терявшая вас из вида все это время, не подозревала до этого года, что Чоэт упомянул о вас в завещании.
– А что же моя мать, Сидни Фицрой? Умерла? Или бросила театр и скрылась?
– Она умерла, – сказал серьезно Кент. – Так что теперь оставалось найти вас, – снова эта странная жалостливая улыбка, – и помочь вам закрепить за собой наследство. Замужние дочери Чоэта предприняли кое-какие шаги, чтобы в виду ненахождения наследника, получить и его долю, но еще ничего не оформлено. Вот и вся история, голубушка!
– Вы меня научите, что делать, Кент? – сказала после паузы Жуанита. – Я бы не хотела фигурировать во всем этом. Можно, чтобы другой все устроил без меня?
– Я думаю, можно. Во всяком случае, – весело заключил Кент, – вы будете обладательницей вашего ранчо, Нита, купите ли вы его сами или получите в подарок от меня или от вашего мужа.
– И я теперь Жуанита Фицрой, – подумала она вслух. – Или я – Сидни?
– Для тех, кто любит вас, вы – Нита, самая милая особа на свете.
– Я ничтожное существо, – ответила она с горечью и тихо. – Кент, вы не знаете, что я наделала! Я не способна, видно, к самостоятельной жизни. Я возвратилась на ранчо, но разбитая. Все так запуталось, так сложно, что, мне кажется, моя жизнь никогда не станет снова простой и ясной.
– Скажите мне первым делом, – спросил Кент, когда страстный голос замер среди молчания, – почему вы бежали от миссис Чэттертон?
Девушка не ответила. Она смотрела на плиты патио с жесткой, суровой складкой у губ.
– В тот день, – не дождавшись ответа, начал снова Кент, – я говорил Джейн Чэттертон (теперь, после всего, что случилось, я могу сказать вам это, Нита, – ведь это было целое столетие назад) – так вот, я сказал Джейн, что, наконец, люблю по-настоящему, что для меня в мире существуете только одна вы.
У нас с Джейн был флирт, какие бывают у большинства праздных замужних женщин в наше время, – продолжал он, между тем, как Жуанита по-прежнему хранила ледяное молчание. – Мы обменивались маленькими тайными нежностями, значительными фразами и взглядами. Вы знаете эту игру… или, впрочем, может быть, и не знаете. Но кроме того, я восхищался ею, чувствовал к ней непреодолимое влечение: наслаждением было наблюдать за ней, неутомимой, решительной, всегда ведущей свою собственную игру. Она имела для меня странное очарование, я всегда испытывал трепет, услышав в передней ее голос, или глядя на нее, такую красивую, смелую, надменно дерзающую…
Он остановился и спросил:
– Вы можете это понять?
– Да, – медленно и хрипло сказала Жуанита.
– Ну вот, – удовлетворенно кивнул Кент. – Затем на горизонте появились вы…
Несколько минут оба молчали и сидели так неподвижно, что молодая чайка с прямыми, словно деревянными ножками, упав откуда-то сверху, стала спокойно прохаживаться у старого фонтана и клевать что-то. Потом вспорхнула и исчезла в солнечном сиянии.
– Вы – как холодная вода, Жуанита, – промолвил отрывисто Кент. – Я хочу, чтобы вы знали, что я всегда любил вас, хотя сам этого не знал сначала. Я в первый раз тогда поцеловал ее – это было наше прощание.
Собственные слова снова вызвали в его памяти тот мир надушенных тел, жарко натопленных комнат, нарумяненных женщин, протягивающих унизанную перстнями руку за коктейлем, картами, деньгами, последней сплетней.
А здесь скрипела временами ветряная мельница, тронутая набегавшим ветром, долетал издали плеск воды. Острый и горьковатый запах хризантем и ивовой коры слышался в воздухе. Вокруг них в патио, залитом солнцем, царила ленивая безмятежность.
– Эти зимние утра, когда я провожал вас в церковь… – начал было Кент, – и, оборвав, встал. Они прошли к входу в патио. Их голубые длинные тени бежали рядом по стене.
Небо окружало их со всех сторон, когда они прошли сквозь арку. Только у ног виднелась узкая полоска океана.
Кент и Жуанита облокотились на низенький плетень, повернувшись спиной к морю, и смотрели в северную сторону. Между коричневых, изрытых непогодами, холмов флегматично бродили коровы. Налево пылали розовые крыши Сан-Эстебано и его квадратная колокольня, темнели фиговые деревья у оштукатуренной стены старой Миссии. Амигос катила бурные волны под древним мостиком, осененным зелеными ивами. Где-то резко и звонко кричал петух.
– Чувствуете вы, как мир открывает глаза? – спросила Жуанита.
Кент же неожиданно и почти грубо произнес:
– Джейн мне писала, что Билли уехал в Китай. Глаза Жуаниты обратились на него. Она немного побледнела и заметила робко и хмуро:
– А я и не знала, что это вам известно.
– О вашей свадьбе появилась заметка в газетах, – уже мягко и осторожно пояснил он… – А я как раз в это время был в Сан-Франциско, в отеле Сан-Фрэнсис.
Жуанита всей тяжестью навалилась на плетень, подперла лицо ладонями и, бегло посмотрев на Кента, снова устремила глаза на холмы.
Боже, так близко! Мы с Билли могли бы встретиться с ним, если бы вместо отеля Фэйрмонт посещали отель Сан-Фрэнсис! И все было бы иначе. Но что пользы думать об этом?
– Как только я прочел заметку, – говорил между тем Кент, – я вызвал по телефону миссис Чэттертон.
– По делу Фицрой?
– Отчасти, – ответил Кент уклончиво. – Я ведь искал вас в продолжение многих месяцев.
– И вдруг, когда нашли, вздумали отправиться в плавание! – Жуанита широко открыла глаза.
– Да, как только поговорил с Джейн.
– Но почему? – настаивала Жуанита. – С деловой целью или у вас вышла какая-нибудь история в редакции?
– Н-нет, – отвечал он неохотно. – Просто по мгновенному побуждению. Я бродил в гавани, увидел людей, которые готовили судно к отплытию, потолковал со шкипером и отплыл с ними с первым приливом. Я тогда готов был уехать не на три недели – на три года. Видите ли… Я знал.
Не уловив его многозначительного взгляда, она повторила с недоумением:
– Знали?
– Знал, почему Билли уехал, – посмотрел на нее Кент беспокойно и пристально.
– Но… но тогда он еще не уезжал. Его отец был еще жив! Как вы могли это знать, если вы уехали на второй день после нашего венчания?
На лице Кента читалось такое же недоумение, как на ее собственном. Он молчал. Она видела, как кирпичный румянец заливает понемногу его шею и уши.
– Я одну себя виню в этом… И мне осталось лишь одно – дожидаться его и постараться загладить вину, если я сумею.
– Вы хотите сказать, что для аннулирования брака ничего не было предпринято? – спросил прямолинейно Кент.
Теперь она багрово покраснела.
– Не может быть ни развода, ни аннулирования. Пусть себе миссис Чэттертон пишет, что хочет, – горячилась она. – Это дело касается только Билли и меня. Я плохо обращалась с ним, и я ужасно сожалею. Я убежала от него на вторую же ночь, – я полагаю, она оповестила вас об этом? И, конечно, Билли рассердился… – я его не виню… и уехал. Вот и все.
– Вы убежали от Билли? – медленно переспросил Кент.
– Ну да! – повторила нетерпеливо Жуанита.
– Когда же? – он снова не смотрел на нее. – В письме Джейн ничего не было сказано об этом.
Он резко повернулся и пошел к утесу. Жуанита за ним.
– И ничего о смерти старика? Как странно! Что же она писала?
– Писала, что связалась с Билли, что брак будет расторгнут и что Билли немедленно отплывает в Китай.

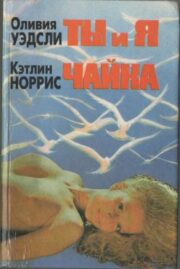
"Чайка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Чайка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Чайка" друзьям в соцсетях.