Вивиан не бросилась вниз по лестнице, как обычно, а спускалась, держась одной рукой за перила, а другой поддерживая юбки, и вздрогнула, увидев, что дядя с суровым выражением лица ждет ее, чтобы проводить в столовую.
Она вспомнила, как отец встречал ее каждый вечер у лестницы и делал ей галантные комплименты — иногда шутливо, иногда серьезно, но всегда нежно. Ощутив разительный контраст, она едва сдержала слезы, но все-таки спустилась вниз, и оба молча пошли ужинать.
Днем Вивиан много времени провела вместе с поваром и экономкой, планируя ужин, чтобы убедить дядю в том, как хорошо управляет кухней и слугами, однако он лишь ради вежливости похвалил ужин. Она решила не спорить с дядей до тех пор, пока с ним не поговорит Виктор, и большей частью молчала. Онорина мирилась со столь необычным для племянницы поведением и заполняла паузы вопросами о парижском обществе. Поскольку Жюль совсем недавно приехал из Парижа, она подумала, что он по крайней мере посвятит ее в последние сплетни. Ни она, ни Вивиан не затрагивали войну в Америке. Онорина поступала так, ибо считала, что тогда он станет еще мрачнее, а Вивиан не желала проявлять интереса к его делам.
Однако после ужина, когда они перешли в гостиную, девушка оживилась и предложила сыграть для него на фортепиано. Это была настоящая жертва, ибо в тот момент сердце у нее совсем не лежало к музыке, но даже она почувствовала, что надо как-то заполнить долгие паузы. Онорина одарила Вивиан благодарной улыбкой, и та стала играть свое любимое произведение Моцарта, полностью погрузившись в него.
Когда музыка стихла, Онорина решила, что в самый раз извиниться и подняться к себе: если оставить их наедине, то они, возможно, лучше поймут друг друга. Оба немного растерялись, когда она ушла, но Онорина поступила так ради их же блага.
Встревоженная тем, что ей одной придется занимать своего опекуна, Вивиан не смогла придумать ничего лучшего, чем предложить ему сыграть еще что-нибудь.
Дядя поблагодарил ее, но отказался от этого предложения. Он выглядел мрачнее прежнего, но заговорил первым:
— Я предложил вашей тете побыть в Мирандоле еще какое-то время и помочь вам своими советами. Она идеальная спутница для девушки — у нее есть время и связи, чтобы ввести вас в хорошее общество, она поможет вам с гардеробом и так далее и будет провожать вас туда, где посчитает уместным бывать.
— Я отношусь к тете Онорине с величайшим уважением, но она слишком стара, чтобы давать мне советы, как одеваться. Она носит лишь черные платья. Я не собираюсь мотаться с ней по всей округе и уверена, что тетя с большим удовольствием проведет время в Париже за игрой в карты в обществе пожилых дам. Я не могу представить ее в качестве своей компаньонки — мы не сходимся характерами.
— Глупости, — ответил Жюль. — Самое плохое, что вы можете сказать о ней, — ей больше пятидесяти пяти лет и она вдова. Это умная и красивая женщина, которая целых пятнадцать лет жила в несчастливом браке, не поступаясь ни уважением к себе, ни репутацией. Ее мудрость станет ориентиром в ваши молодые годы — ничто так не учит женщину, как несчастливый брак.
Вивиан скривила губы. Что можно сказать об уме и сердце мужчины, который делает столь циничное замечание? Видно, он решил превратить Мирандолу в тюрьму для нее, а Онорину — в надзирательницу.
— К сожалению, я сильно устала, месье. Вы не возражаете, если я поднимусь наверх вслед за своей компаньонкой?
Жюль сжал губы, хорошо понимая, что девушка тяготится его обществом, но встал и поклонился, когда она встала. Поднимаясь по лестнице, Вивиан думала, как долго ей в Мирандоле придется терпеть нравоучения и общество этого назойливого гостя. Будущее сулило ей две возможности — стать либо узницей, либо женой. Она сцепила руки, надеясь, что завтра родители Виктора явятся с визитом.
Отправившись спать так рано, Онорина расплачивалась тем, что лежала с открытыми глазами в предрассветные часы и больше не могла уснуть. В доме было очень тихо, но около трех часов она уловила, что кто-то, тихо ступая, прошел мимо ее комнаты и спустился по лестнице. Она подумала, что Вивиан тоже не спит, и решила, что стоит поговорить с ней наедине. Взяв свечу, Онорина спустилась вниз, увидела свет в музыкальной комнате и вошла.
Но там был Жюль: она забыла, что он всегда ходил очень тихо. Он стоял посреди комнаты, держа графин с коньяком в одной руке и рюмку в другой. Жюль насмешливо улыбнулся, сел за стол и, не говоря ни слова, наполнил рюмку. Его рука дрожала, горлышко сосуда громко стучало о рюмку. Онорина тоже села и предложила разбудить слугу, чтобы приготовить горячий шоколад. Он вздрогнул и отодвинул рюмку, не пригубив ее. Она видела, что его лицо побледнело, а кожа съежилась, будто на нее дул холодный ветер. Онорина резко спросила, что его беспокоит. Жюль заметил, что она бросила взгляд на рюмку с коньяком, и сказал:
— Только не это, слава богу. Я принимаю совсем другое. В Канаде меня так долго держали в больнице, что я в конце концов сам покинул ее раньше времени, однако ночами тело с лихвой мстит мне за это. Мне приходилось употреблять настойку опия, иначе я сошел бы с ума. Недавно я решил, что пора отказаться от этого средства, но обнаружил, что не могу уменьшить дозу ни на каплю: осталось только выбросить настойку, когда я уезжал из Парижа. — Он провел рукой по лбу. — Эта штука все еще играет со мной скверную шутку: встать утром все равно что выбраться из савана, а ночью чертовски трудно уснуть. Каждая частичка моего тела громогласно требует только одного. — Жюль снова взглянул на нее. Расширенные зрачки казались неестественно черными. — Ты, случайно, не…
Онорина ответила, что никогда не пользовалась настойкой опия, и сразу решила избавиться от всех запасов этого зелья. Он рассмеялся, догадавшись, что она говорит неправду, и сжал руки, чтобы унять дрожь.
— Тебе надо чем-то заниматься, чтобы не думать об этом, — заметила Онорина. — Разве ты не можешь читать?
На долю секунды он задумался, а затем отрицательно покачал головой.
Онорина видела, что он пребывает в отчаянном состоянии, чтобы играть в карты или поддерживать разговор.
— Наверно, ты не очень любишь музыку — вечером ты с трудом слушал игру своей племянницы.
— Я не могу, — тихо ответил он. — Она играет так же, как ее мать.
Не желая углубляться в эту тему, Онорина встала, закрыла дверь музыкальной комнаты и стала искать на полке возле фортепиано свои любимые произведения. Затем села на табурет и сказала:
— Племянник, не можешь же ты всю оставшуюся жизнь сторониться музыкальных инструментов? Уверяю, я играю совсем иначе, чем Вивиан. Однако останови меня, если моя игра начнет раздражать тебя.
Он пересел на диван, облокотившись на спинку.
— Я всегда восхищался твоей игрой. Слушать ее — настоящее удовольствие.
Онорина играла целый час. Мелодии ясно звучали в ночной тишине, и под влиянием музыки она почувствовала умиротворение. Закончив игру, она оглянулась и увидела, что Жюль стоит в конце комнаты, сложив руки за спиной, и разглядывает портрет, на котором Роберт и Виолетта были изображены во весь рост. Когда он вернулся к дивану, Онорина устроилась в кресле напротив него. Она понимала, что этой темы им сейчас не избежать.
— Сегодня я ходил к ним. На ее могиле написано… — Жюль умолк, словно тщательно обдумывал следующие слова. — В надписи на ее могиле упоминается ребенок.
— Разве ты не знал, что, ее второй ребенок похоронен вместе с ней.
Он сощурил глаза, будто она ударила его и пора готовиться к отражению нового удара, но в его голосе не чувствовалось робости.
— Она так и не… Роберт мне ничего не сообщал об этом. Мне дали понять, что ее настигла неожиданная болезнь. — Однако по глазам Онорины он заметил, что это далеко не вся правда, и склонил голову в ожидании. — Ты должна мне все рассказать.
Виолетта де Шерси страшно мучилась от сильной лихорадки. Вивиан в то время было двенадцать лет, и Онорину пригласили в Мирандолу за несколько недель до ожидавшихся родов. Не исключалась возможность, что ребенок, подобно Вивиан, появится на свет раньше времени и Онорине придется руководить хозяйством, пока Виолетта не встанет на ноги. Но получилось так, что она, слуги и врач были целиком заняты спасением жизни матери и ребенка.
Как можно осторожнее Онорина описала течение болезни, но когда она дошла до затянувшихся и изматывающих болей, после которых родился мертвый ребенок, она вдруг услышала, что Жюль с мольбой в голосе просит ее прекратить рассказ. Она подняла глаза. Жюль уперся локтями в колени и закрыл лицо руками, затем резко поднялся и вышел из комнаты. Она поняла, что он плачет.
Она упрекала себя за то, что поддалась на его просьбу рассказать правду, и не знала, уйти ли в свою комнату или остаться здесь. Однако спустя некоторое время он вошел с ввалившимися глазами и спокойно сел на прежнее место.
— Вернувшись в Мирандолу, я омрачил бы их счастье. С тех пор… Я каждый год клялся, что уеду во Францию до наступления зимы, и каждый год откладывал свое возвращение. Теперь мне нечего бояться. Мне следует радоваться, что трусость удерживала меня так долго.
Онорина ужаснулась его тону, в котором чувствовалась ненависть к самому себе.
— В Мирандоле жизнь продолжается, — сказала она. — Осталась их дочь, о которой ты должен позаботиться. Займись этим.
Жюль молча встал, и они вместе вышли из комнаты. Взяв ее за локоть, он помог ей подняться по лестнице, а когда оба оказались наверху, тихо сказал:
— Да. Судьба выбрала меня, наименее способного, наименее опытного и меньше всего желающего заниматься таким делом. Но я выполню его, и да поможет мне Бог, ибо с того Рождества на мне лежит проклятие.
Прежде чем войти в свою комнату, Онорина стиснула его руку:
— Это полуночное наваждение. Завтра все пройдет.

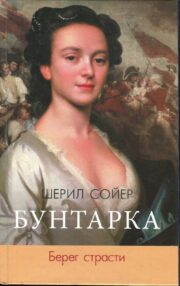
"Бунтарка. Берег страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бунтарка. Берег страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бунтарка. Берег страсти" друзьям в соцсетях.