Впервые он заговорил со мной при новой встрече у церкви, когда кто-то недоброжелательно заметил, что никогда не думал, будто он столь набожен, на что он ответил: «Верно, в прошлом я пренебрегал своими молитвами». Затем очень тихо, едва шевеля губами, сказал только мне: «Но я еще не встретил своего доброго ангела».
Я так испугалась, что кто-то мог услышать это, задрожала и уронила свой ридикюль. Он наклонился, поднял, и его лицо оказалось вровень с моим, губы совсем близко, а глаза горели. Как странно — вокруг нас разговаривали люди, но он сказал больше одним взглядом, чем они своей болтовней. Когда он рядом, кажется, что я нахожусь совсем в другом мире и веду совсем другой разговор. Он вложил ридикюль в мою руку, взял ее своими двумя, затем отпустил и пробормотал: «На следующей неделе у моей матери. Вы должны обязательно прийти, иначе я не отвечаю за себя».
За несколько минут до того, как все разошлись, он сказал моей маме: «Надеюсь, что в следующий четверг вы и мадемуазель де Биянкур сможете быть на приеме, который устраивает моя мать. Для нее это будет большой честью». Я была не в силах встретить его взгляд, когда мать согласилась.
Как мне идти на прием, если он рассматривает визит вежливости как любовное свидание? Если пойти, то покажется, будто я согласна… на все, что у него на уме. А что у него на уме? Хотелось бы получить от тебя ответ до этого приема. Мне необходим твой совет, ибо я совсем не могу обсуждать это с мамой. Помнишь, мы однажды задумали великолепный план — создать голубиную почту между Мирандолой и моим домом? Почему мы никогда не выполняем мудрые, практичные вещи, задуманные в девичестве? Почему мы, взрослея, теряем изобретательность?
Моя дорогая, я чувствую, что мы с тобой вступили на порог новой эры. Как мужчины осложняют нашу жизнь!
Навеки твоя подруга Луиза».
В письме Луизы было спрятано обещанное послание от Виктора. Он приложил немало усилий, чтобы написать его. Он сообщил обо всем, происходившем в Париже, и не пропустил подробностей, которые могли ее развеселить. Он едва мог по достоинству оценить великолепие дома семейства Ноай на Рю де Фобур Сен-Оноре, где он гостил со своим другом маркизом де Лафайетом, но описал все, чтобы убедить Вивиан в том, что они самые желанные и приятные гости, каких только можно представить.
Виктор не удержался и поведал свою историю Адриенне де Лафайет. Хотя ей было всего шестнадцать лет, она уже два года как была женой и матерью. Его очаровали ее серьезность и сочувствие, когда он рассказал о своем неудачном сватовстве. Он писал Вивиан: «Она очень мило говорит мне, что мы оба должны учиться терпению. Она и маркиз занимали каждый отдельное крыло этого дома много лет, пока мать не посчитала, что им пришло время пожениться. Их брак был заранее обговорен, но, живя рядом, они влюбились и любят друг друга до сих пор. Даже один разговор с ней обнадеживает меня».
Сначала, хотя он и не признался Вивиан в этом, Виктор нашел Париж скучным, ибо с раздражением обнаружил, сколько времени все тратят, чтобы подготовиться к выходу из дома, и то ради таких бессмысленных дел, как катание в экипаже в Булонском лесу. Однако маркиз де Лафайет вскоре предложил исправить такое положение: он повел Виктора к своему учителю фехтования в «Лесную шпагу» — кабаре, расположенное на пути к деревне Монмартр, где среди прочей компании они встретили людей, которые испытывали не меньший интерес, чем они сами, к тому, что происходило по другую сторону Атлантического океана в новых Соединенных Штатах Америки.
Приехав туда во второй раз, они фехтовали на рапирах позади кабаре в длинной галерее, которая сначала предназначалась для игры в карты. Когда хозяин понял, что молодые люди готовы делать вылазки из Парижа в деревню и проводить время в его заведении, не брезгуя ни его скромным выбором пива и вин, ни грубыми путешественниками и полевыми работниками, которые также собирались за столиками, он сделал все, чтобы угодить их нетребовательным вкусам и желанию практиковаться на шпагах.
Виконт де Куаньи, стройный молодой человек, облаченный во фрак из серебристой парчи, который не очень вписывался в обстановку, где он находился, и сцену, за которой он наблюдал, расположился на деревянной скамье, сощурясь от блеска лезвий, мелькавших вокруг него.
Он неожиданно рассмеялся, когда маркизу де Лафайету, который вдруг поскользнулся на паркете, пришлось «нырнуть» и увернуться, а Виктор, воспользовавшись неожиданным преимуществом, сделал резкий выпад и чуть не коснулся рапирой плеча соперника.
— Тебе еще рано успокаиваться, мой друг! — громко сказал виконт. — Может, пора вернуться в Мец и еще немного потренироваться?
— Куаньи, это я провожу тренировки, и мне хотелось бы видеть, как ты будешь учить тех, кого мне предстоит… — Он осекся, когда острие рапиры Виктора сверкнуло рядом с рукавом его рубашки. Покрытое веснушками лицо Лафайета нахмурилось, и густая прядь рыжих волос, взмокшая от пота, прилипла ко лбу. Несмотря на то что он с мрачным видом сосредоточился на фехтовании, огонь все еще горел в его настороженном взгляде голубых глаз, следивших за каждым движением Виктора. Лафайет не сомневался в силе собственного крепкого сухощавого, гибкого тела. Воспользовавшись приемом, который недавно усвоил у учителя фехтования в гарнизоне, он застал Виктора врасплох, и тот невольно отступил назад, к помосту.
Клинки скрещивались и звенели, пока Виктор умело отражал удары. Он чувствовал, что рука все время дрожит, но он был сильнее и радовался тому, что способен держать маркиза на расстоянии, несмотря на то что тот превосходил его в мастерстве.
— Это новый прием, — сказал Виктор. — Если ты освоил его именно в Меце, то я не прочь вернуться туда вместе с тобой.
— Мец — край света. Только не говори, что сейчас ты готов променять Париж на другое место. А как же твоя любовная интрижка?
Виктор выругался, когда кончик рапиры маркиза поцарапал его предплечье, и проворчал:
— Есть!
Куаньи привстал:
— С маленькой Биянкур?
Маркиз проигнорировал мелькнувшее на лице Виктора раздражение и сказал:
— Ну хватит, сдавайся! — И дал решительный отпор, когда Виктор удвоил свои усилия. Рассмеявшись, Лафайет сказал: — Куаньи, хочешь верь, хочешь нет, но за безупречным отношением нашего друга к очаровательной мадемуазель де Биянкур скрывается совсем другая история.
— Но тебе никто не дал права говорить об этом, — возмутился Виктор и резким выпадом застиг маркиза врасплох, с удовлетворением заметив, что жилет, который тот надел поверх рубашки, окрасился в розовый цвет.
Лафайет бросил рапиру на землю и широко улыбнулся Виктору, стараясь отдышаться.
Куаньи сказал с притворной обидой:
— Так нечестно. Он только что приехал из провинции и уже по уши увяз в любовном заговоре.
Спокойно глядя Виктору в глаза, Лафайет тут же ответил:
— Куаньи, довольно! Мы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать дам.
— Не будем обсуждать даже Венеру этого года? Несравненную Аглаю де Юнолстейн?
Маркиз покраснел — настала его очередь растеряться. У этой юной дамы, недавно появившейся среди избранного общества, были десятки поклонников при дворе, а его собственное восхищение, которое он слишком поспешно выразил во время последнего визита в Версаль, не произвело на нее ни малейшего впечатления.
Виктор подошел к окну, положил свою рапиру на скамью рядом с Куаньи и начал расстегивать тунику для фехтования. Он не был расположен участвовать в беседе о версальских красавицах и обрадовался, когда Лафайет повернул разговор в другое русло. Он не завидовал ни тому, что его друг мог свободно бывать при дворе, ни устраиваемым там пышным балам, которые украшали своим присутствием прекрасные светские львицы. Напротив, желание маркиза блистать в этой среде само собой не внушало дружеских чувств Виктору. Если он и ревновал к чему-то, то лишь к преданности маркиза и своей юной жене, свидетелем которой он стал. Такая преданность запала ему в душу среди прочих менее заметных явлений как цель, ради которой без сомнений можно вступить в сражение.
Онорина де Шерси тосковала по Парижу. Она тосковала не только по своему удобному дому на Рю Жакоб, по вечеринкам за ломберными столиками и друзьям, но и по упорядоченной и спокойной жизни. Онорина была из тех женщин, для которых домашнее счастье значило все, однако после короткого первого брака она лишилась этого. Любимый муж и маленькая дочь умерли от одной и той же болезни, и долгое время ее беспокоили лишь многочисленные нежеланные предложения руки со стороны тех, кого соблазняло ее состояние. Ее надежды воскресли, когда она встретила Аристида де Шерси и вышла за него замуж, ибо считала, что его не интересуют ее деньги. Очень скоро она убедилась, что это не так, и, хотя старалась создать ему мирный и приятный очаг, лишь наталкивалась на его мрачное настроение и сухость. Ей не стоило жалеть о том, что у них не было детей.
Когда Аристид умер, она снова погрузилась в одиночество и решила, что больше никогда не выйдет замуж и в ее доме больше не будет детей. Мир и спокойствие поселились в ее душе, и она решила перенести всю свою нерастраченную любовь на людей, которых ей так не хватало, которые могли бы принести тепло в ее жизнь. Онорина очень любила семейство Шерси, живших на Луаре. Хотя их не связывали кровные узы, тем не менее они были ей ближе всех — даже Жюля во время долгого отсутствия она вспоминала с любовью. Вот потому-то она осталась в Мирандоле, считая, что может быть полезной. Однако после отъезда Виктора де Луни в Париж положение дел ухудшилось, и в этом ее племянник был виноват не меньше, чем Вивиан.
Еще мальчиком Жюль был известен своим мрачным, необузданным нравом, который никогда не обращался против его новой семьи, но тем не менее всегда был готов вырваться наружу. Онорина не часто видела его таким в юности и надеялась, что он исправился. Но вот Жюль выгнал управляющего Мирандолой, проработавшего здесь более двадцати лет. Он принял такое решение, ознакомившись с бухгалтерскими книгами имения, и не стал обсуждать этот вопрос ни с ней, ни с Вивиан, был немногословен и с самим управляющим, Жаном Любеном. Женщинам было лишь сказано, что Любен последние несколько лет не сумел продать по достойной цене пшеницу, рожь и другие зерновые и слишком часто проявлял свою некомпетентность. Вивиан попыталась вступиться и, когда ей это не удалось, собиралась заявить формальный протест, но натолкнулась на глухую стену. Прощаясь, Любен устроил жалостливую сцену, что тронуло Вивиан и вызвало раздражение у Жюля. Онорина заметила, что он с трудом сдерживает свой гнев.

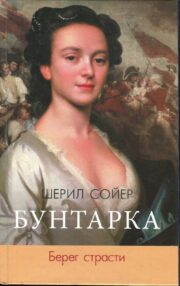
"Бунтарка. Берег страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бунтарка. Берег страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бунтарка. Берег страсти" друзьям в соцсетях.