Это была она, помятая, осунувшаяся, почти не одетая.
— Лелия! — закричал я и стал барабанить по стеклу. — Лелия!
В свете флуоресцентных ламп было видно, что ей плохо. Она часто и тяжело дышала, стонала. Ее вел под руку маленький сухой старик в пижаме. Она согнулась и стала опускаться на пол. Пенсионер встал на колени и неуклюже попытался поддержать ее за плечи, за что я всегда ему буду благодарен. Я снова стал звать ее. Пошатываясь, она подошла к двери.
— Милая, — захрипел я, когда она упала мне на руки. — Черт! Господи!
— Ричард, — простонала она. — Рич…
Договорить ей помешали слезы. Рот ее приоткрылся, и она стала сползать вниз.
— Это ребенок? — спросил я.
— Тебя так долго не было.
— Она мне только что сказала. Господи, — воскликнул я, целуя ее в шею, прижимая крепче к себе, целуя мокрое лицо, ухо, чувствуя себя на седьмом небе от счастья, хоть и понимая, какую муку ей в ту секунду доставлял ребенок. — Я ее муж, — сказал я старику, который стоял, совершенно сбитый с толку, и смотрел на нас. — Спасибо, — добавил я и хлопнул его по плечу, потом схватил его руку и стал трясти изо всех сил. — Спасибо.
Он кивнул. Бросил последний взгляд на несчастную Лелию, развернулся и, понурив голову, пошел к лифту.
Лелия стонала и старалась удержаться за меня, чтобы не упасть, отчего я сам чуть не терял равновесие. Иногда она на несколько секунд замолкала и даже переставала дышать, и тогда я крепче прижимал ее к себе, начинал разговаривать с ней, машинально гладил ее сильными повторяющимися движениями, на что она отвечала низкими утробными звуками, криками и проклятиями. Из проезжающей мимо уборочной машины выглянул водитель и поехал дальше.
— Вы «скорую» вызвали? — быстро спросил я.
Она кивнула и поморщилась.
— Сосед.
— Все хорошо, дорогая, все хорошо, — стал успокаивать ее я.
— Я так рада, что ты пришел, — едва слышно сказала она, не поднимая головы. — Ты мне был очень нужен. Ричард, ребенок… сколько уже недель?
Она подняла на меня умоляющий и беспомощный взгляд. Я не понял, что она имеет в виду.
— Где же они? — нетерпеливо сказал я, глядя по сторонам и прикидывая, смогу ли я сбегать за своей машиной. — Давай вызовем такси.
Пока я кое-как набирал нужный номер на мобильнике, она отвернулась к двери, я погладил ее по спине. Ниже по улице показалась машина с оранжевым огоньком, она притормозила, чтобы развернуться.
— Такси! — отчаянно закричал я. Вставил в рот пальцы и пронзительно свистнул. Оранжевый огонек погас, и машина подъехала к нам.
Я торопливо усадил Лелию на заднее сиденье, не обращая внимания на недовольные взгляды водителя, и включил кондиционер на холодный воздух.
Она сползла с сиденья на пол, цепляясь за меня, так что мне пришлось скрючиться рядом с ней. Она отвернулась и прислонилась к сиденью. Застонала.
— Знаю, знаю, — сочувственно сказал я. — Дорогая, ты такая смелая. Держись. Хорошая девочка. Такая смелая. Скоро приедем.
— Она бросила меня, — сказала Лелия, глядя на меня безумными глазами.
— Кто? А… — Мимо нас в противоположном направлении пронеслась машина «скорой помощи».
— Она… понимаешь… она бросила меня там. Одну. Не дала мне позвонить в больницу.
— Что?
— По-моему, она тоже не позвонила. Она могла же убить… ведь еще слишком рано… Как больно.
— Она знала, что ты рожаешь?
Лелия издала длинный хриплый крик вместо кивка, вжавшись головой в сиденье.
— Воняет. От этого сиденья воняет, — превозмогая боль, она повернулась ко мне.
Я поцеловал ее заплаканные щеки, обнял под мышками и вжался между ней и сиденьем. Мне хотелось слиться с ней телом, чтобы принять ее боль на себя.
— Она тебя оставила в таком состоянии? — прошипел я.
— Да, — ответила она.
Мои мысли, запущенные в одном направлении переменчивыми представлениями о реальности Сильвии, теперь с такой же сумасшедшей скоростью понеслись в обратную сторону, отчего я еще раз содрогнулся.
— Она сумасшедшая, она сумасшедшая, — мой голос едва не сорвался на фальцет.
Лелия собралась и, прижимаясь ко мне, села на корточки, схватила меня за руку, когда машина поворачивала. Водитель включил «Радио «Кэпитал»».
— Милая моя, мы уже подъезжаем, — говорил я, крепко сжимая в своих руках ее тело, стараясь облегчить ей вес, просунув свои колени у нее под ногами.
— Она сумасшедшая.
— Я знаю, я знаю.
— Почему тебя так долго не было? — Глазами, полными волнения и отчаяния, она посмотрела на меня. Ее голова билась о мое плечо.
— Она только что мне сказала.
— Где ты был?
— У реки. С ней…
— У реки? — бездумно переспросила она, новый крик уже готов был исторгнуться из нее.
— Она обманула меня. Но она уже ушла, ушла. Все. Больше мы ее не увидим.
— Мне было так страшно.
— Слышишь? Ее больше нет. Я больше никогда не буду с ней разговаривать. Она… мы больше ее не увидим, клянусь тебе. Извини.
— Обманула… — простонала она и покачнулась.
— Я знаю, любимая, — я снова подхватил ее под руки. — Она…
— Это ты обманул, — морщась от боли, слабым голосом сказала она. — Ты мне… изменял. Ты чертов… ты… Я была беременна.
— Да, — покачал головой я. — Извини…
— Чем вы занимались у реки? — гневно спросила она, цепляясь за меня руками. Глаза у нее широко раскрылись и казались испуганными.
— Я… — сказал я, посмотрел на пол, потом на нее, почувствовал, как на шее дернулся кадык. Она видела меня насквозь, даже несмотря на ужасную боль, она видела меня насквозь.
— Чем? — выкрикнула Лелия.
— Извини меня, — пробормотал я. — Это больше не повторится. Ее больше нет.
Она повернулась ко мне. Рот раскрыт. Кожа, и так мертвенно-бледная, побелела еще больше.
— Она для меня ничего не значит, — в отчаянии затараторил я. — Она просто скучная маленькая…
Лелия громко рассмеялась. Ее безудержный дикий смех превратился в скорбный вопль.
— Нет, — она отвернулась. Еще раз хохотнула и заплакала. Потом резко повернулась ко мне и до боли сжала мне руку. Глаза ее как будто смотрели сквозь меня. Расслабленные губы сложились в непривычную и пугающую фигуру. Она громко застонала и согнулась пополам, выгнув спину, как кошка.
Ее дыхание сделалось шумным.
— Не может быть, — наконец произнесла она напряженным тоненьким голосом.
— Извини, — сказал я и обнял ее. Погладил по спине. Въезжая на остановку перед больницей, машина качнулась, и я обхватил ее за талию. — Лелия. Любимая. Ты ведь тоже… — начал было я, но осекся. — Слушай, нельзя сейчас это обсуждать. У нас еще будет время об этом поговорить.
— Замолчи, замолчи! — закричала она. — Не сейчас. Ах ты подлец. Не сейчас.
Водитель открыл дверь, и Лелия качнулась к выходу.
Деторождение оказалось процессом, откровенная жестокость которого требовала уединения в лишенном окон помещении, где эхом стонов Лелии по коридору разносились крики других агонизирующих женщин. Мою любимую подключали к датчикам, обвязывали ремнями и просвечивали; ей делали уколы, в нее влезали руками и засовывали в рот лекарства, пока удивительно допотопные машины выплевывали бесконечные ленты исчерченной миллиметровки, а австралийцы в белых халатах с клипбордами в руках то входили в палату, то выбегали из нее, и только лишь невозмутимый доктор, похоже, точно знал, какие из слабых толчков сердца эмбриона и внезапных выделений можно было считать нормальными, а какие — проблемными, в то время как сама Лелия на протяжении всей серии пыток то тряслась, то блевала.
В полубессознательном состоянии она кричала, поминая то своего ребенка, то какого-то другого ребенка, непонятного младенца из ее прошлой жизни, и какое-то время я с волнением задумался, а не наделяет ли она человеческими чертами тех недоразвитых зародышей, которых ее тело отторгло раньше. Она проклинала Сильвию, но уже в следующую секунду звала ее; она проклинала меня, сообщая мне, что я лжив, жесток и вообще свинья; она грубо отталкивала меня; она тянула меня к себе и говорила, что любит меня и всегда любила больше всех. Она осыпала Сильвию, меня, нас с Сильвией и даже свои собственные отношения с ней такими ругательствами, которых я никогда раньше от нее не слышал, — это был какой-то чужой язык, средневековый, примитивный и дикий. Когда боль становилась такой сильной, что она впадала в ступор и переставала узнавать медперсонал и меня, на нее снисходило спокойствие, и тогда она начинала бормотать что-то бессвязное про своего отца, про кого-то по имени Агнес. Она произносила и такое, к чему я прислушивался внимательнее, просила прощения и обещала не оставлять ребенка. Из ее отрывочного и монотонного бормотания, похожего на молитву, можно было понять, что она пыталась дать какую-то клятву.
Я не сводил с нее глаз, как зачарованный, следил за ней с восхищением и удивлением. Она представлялась мне троянцем, мужественным воином, наделенным прекрасным диким и чистым духом. Иногда, отвлекаясь от ее печального состояния, я думал, что вот мы, Лелия Гуха и я, находимся вместе в одной комнате, и это все, что мне было нужно. Я начинал исступленно молиться всем богам, которых знал, начиная от бородатого старика и столь противных ему лесных духов и местных божков, почитаемых моими корнийскими соотечественниками, и заканчивая неким размытым облаком концентрированной мысли, которое рождалось, когда я попадал в трудные ситуации. Я немного поплакал. «Спасибо», — сказал я, и тихонько оттарабанил коротенькую молитву во спасение ребенка.
Однако до сих пор к ребенку у меня еще не сформировалось какого-то определенного отношения. Мне не хотелось, чтобы Лелия все свои чувства отдала ему. Я понимал, что чем дальше ее тело выталкивало его из себя, неумолимо подгоняя гормонами, тем все более слабыми становились мои позиции в ее сердце.

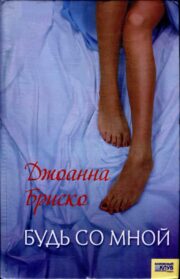
"Будь со мной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Будь со мной". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Будь со мной" друзьям в соцсетях.