Вскоре в Антиохию прибыло византийское посольство во главе с приближенными императора – внуком василевса Алексием Комниным и префектом Нового Рима Иоанном Каматеросом, ближайшим соратником Мануила. От имени Его Царственности, императора Ромейской империи, знатные греки торжественно просили у княгини Антиохии руки ее дочери – несравненной Марии Антиохийской. Тот, кто заставил Солнце и Луну сиять во славе, Тот смог позаботиться и о капризной принцессе! Одного присутствия послов столь высокого ранга оказалось достаточно, чтобы Констанция снова прочно заняла престол. А если предпочтение, оказанное безупречной Марии, ошеломило и разгневало юного графа Триполийского и встревожило короля Бодуэна, так об этом Констанция не печалилась, ибо уже убедилась, как мало стоила их дружба.
В конце лета счастливая и гордая дева отбыла из гавани святого Симеона в Константинополь с невиданной помпой, подобающей невесте василевса. На лбу ее сияла диадема, за ней тянулся длинный парчовый шлейф, знатнейшие византийские вельможи вели ее с обеих сторон за кончики пальцев, а она, которая всегда носилась необузданной кобылицей, теперь семенила крошечными, едва заметными шажками и плыла меж рядами провожающих небесным облаком. Вся в мечтах о блистательном будущем, не пролила при расставании ни слезинки. С грустью и тяжкими предчувствиями смотрела Констанция вслед кораблю. Никогда больше в этой жизни она не увидит прекрасную и взбалмошную Марию. Амбиции, гордость и неукротимость ее близких в короткое время забрали у нее супруга, сына и дочь. Всю жизнь Констанция поступала так, как только и могла поступить, и каждый раз добивалась задуманного. А пустота и одиночество вокруг нее лишь росли и ширились.
Предчувствия, однако, оказались обычной неуемной материнской тревогой: уже на Рождество в Храме святой Софии три патриарха – Константинопольский Лука Хрисоверг, патриарх Александрии Софроний и патриарх Антиохии в изгнании Афанасий II – венчали ее дочь с василевсом. Свадьбу отмечали многодневными пирами, великими дарами церквям и монастырям и колесничными бегами на ипподроме.
Радость Констанции омрачила лишь юная Мелисенда, чрезмерно воспарившая в честолюбивых замыслах. Не перенеся разочарования внезапного афронта и позорных слухов о своем незаконном происхождении, та, которую еще недавно величали будущей императрицей, приняла постриг. Видит Бог, Констанция искренне жалела несчастную кузину, ставшую жертвой пороков и амбиций родичей. Бедняжка страдала недолго, вскоре зачахла в обители от стыда и горя. Поистине, Годиэрна ела кислый виноград, а у дочери на зубах оскомина!
Еще хуже воспринял отказ брат Мелисенды – Раймунд Сен-Жиль. Возомнил себя Авессаломом, мстящим за бесчестие сестры своей Фамари: погрузил на построенные для приданного галеры разбойников и, в наказание грекам за нарушение сговора и поруганную честь семьи, отправил флотилию грабить многострадальный Кипр.
Зато Антиохия наконец-то оказалась под надежным протекторатом Византии, и неразумный Бо с подстрекателем Бодуэном отныне не смели посягать на власть матери, пользующейся расположением императора.
В конце того же лета Господня 1161 сдала и старшая Мелисенда. Правительницу, без которой невозможно было представить Утремер, внезапно хватил удар. В одночасье мудрая, деятельная женщина потеряла память и разумение, впала в детство и никого более не узнавала. Верно сказал мудрый царь Соломон, что даже величайший из всех, царствовавших в Иерусалиме, даже мудрейший из них умирает наравне с ничтожным и глупым, и все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем.
Сестры королевы – Годиэрна Триполийская и Иоветта, аббатиса монастыря святой Марии и Марты в Вифании, не отходили от постели несчастной и преданно за ней ухаживали. Констанция тоже непременно поспешила бы к одру тетки, но присутствие там этих неразлучных жен-мироносиц, в особенности необузданной Годиэрны-Иродиады, грозило превратить трогательное семейное прощание в непотребный скандал. Вдобавок неразумно было теперь покидать Антиохию: нетерпеливый сын мог и не отпереть княгине ворота по возвращении.
В начале осени, сразу после Рождества Божьей Матери, самая могущественная в истории христианского мира женщина-правительница – королева Иерусалима Мелисенда – легла в заранее уготованную могилу рядом со своей матерью, королевой Морфией, в той самой Иосафатской Церкви Святой Девы, где когда-то Констанция вдохнула в ее неблагодарного сына мужество и высокие устремления, а Изабо обрела в его глазах прелесть Суламифи.
Раз в неделю заключенных выпускали из ямы фараоновой на внутренний двор, и брадобрей тупым ножом больно скреб их головы и подбородки. Басурмане считали бороду украшением мужчины и ревниво следили, чтобы никто из бесправных латинян не отрастил этого признака достойных мусульман.
Однажды ворота распахнулись, и под охраной мамлюков вошел эмир джандар, Аззам ибн Маджд ад-Дин, роскошно одетый и надменный. Все тюремщики, включая толстого хаджиба, принялись униженно кланяться. Рено понял, что Аззам явился за ним, отступил к стене, сжал кулаки и приготовился дорого продать свою жизнь. Но эмир джандар в его сторону даже не глянул. По его знаку мамлюки схватили молодого и статного узника, скрутили ему руки за спиной.
– Кто это? – тихо спросил Рено у Паскаля Лаборда.
Паскаля, немолодого, сутулого, замкнутого тамплиера, недавно бросили в яму к Шатильону. Рено с ним ладил. Князь всегда уважал силу воли тамплиеров, их верность, мужество и непримиримость к язычникам, а этот выходец из Оверни никогда не жаловался, не терял ровного расположения духа и ничего ни у кого не просил.
– Это Дамиен Фокомбер, – коротко ответил Паскаль.
Франку запрокинули голову, на белой шее напряглись жилы и задергался кадык. Подошел цирюльник. Аззам что-то сказал, склонившись над несчастным.
– Выкуп требуют, – догадался Паскаль.
Фокомберы были знатной и богатой семьей Утремера. По-видимому, нечестивцы это знали, вот и вымогали за Дамиена неподъемные деньги. Пленник в ответ что-то злобно прохрипел. Аззам кивнул стражникам, мамлюки окружили несчастного, Паскаль сделал шаг вперед, Рено предупреждающе ухватил его за локоть. Не торопись, брат-тамплиер, басурманам только приятно будет и с тобой расправиться, ничем Дамиену не поможешь. Если беду можно поправить деньгами – это еще не настоящая беда. Из-за спин тюрков они видели только ноги пытаемого, судорожно сучившие по земле, и доносились его полузадушенные хрипы. Наконец брадобрей выпрямился – в поднятых клещах был зажат окровавленный зуб. Аззам опять что-то рявкнул, ответа Рено не расслышал, тюремщики снова навалились на плечи Дамиена, цирюльник во второй раз потянулся ко рту пытаемого, но тот взвыл на всю джуббу, и в горле его клокотала то ли ярость, то ли кровь:
– Да! Да! Согласен! Согласен!
Подскочил писец, протянул пергамент и перо. Фокомбер приложил к документу трясущуюся руку. Аззам выхватил пергамент, повернулся и, не удостоив никого взглядом, покинул двор. Оставшийся на земле узник уткнул окровавленное лицо в ладони, плечи его жалко тряслись. Испуганные заключенные молчали, многие отвернулись, не желая видеть унижения товарища. Но челюсти Рено свела зависть, кислая, как уксус:
– Хотел бы я так легко отделаться. Я бы без споров согласился на любые условия, только за меня никто не станет платить, даже если мне все зубы до последнего вырвут, – невольно ощупал языком пока еще целый частокол.
Паскаль пожал плечами:
– Я об этом и не думаю. Бедный рыцарь Христа может предложить за себя только боевой пояс и кинжал. И то и другое у меня давно и так отобрали. Я отсюда живым не выйду.
Сказал это спокойно, без горечи или обиды. Набрал из пристенного фонтанчика воды и понес чашу Дамиену. Лаборд умел перетерпевать тяготы заключения безропотно и с достоинством. Он одновременно и раздражал князя смирением со своей участью, и поражал силой духа, которую черпал в неколебимом доверии к Господу. У самого Шатильона не было ни смирения, ни терпения мученика, и полагаться он привык только на себя, и уж если сам не справлялся, то и на небеса не рассчитывал. Но сейчас его охватило теплое чувство общности с братом-храмовником. Конечно, Рено не желал Лаборду доживать век в застенке, но невольно полегчало на душе оттого, что он не был тут единственным, покинутым без надежды на избавление.
Когда до подземелья дошла весть, что падчерица стала византийской императрицей, как кипрей на пепелище расцвела страстная надежда: не может же новый зять, который ради вызволения совершенно чужих ему пленников от Алеппо отказался, оставить свойственника в заточении у сирийских арамеев? Но время шло, а ничего не происходило, только стылую зиму сменяло знойное лето, и вновь наступали холода, а затем ледяной каменный мешок опять превращался в душную парилку. Год шел за годом, близкие устраивали свои судьбы, радовались и благоденствовали, но ни хаджиб, ни эмир джандар не вспоминали о Шатильоне, никто не вел с ним переговоры о выкупе, и из внешнего мира до узника не доходила ни единая обнадеживающая весть. Выше сил человеческих было сохранять упования. Видно, обречен был Рено, и ждала его участь Жослена Эдесского.
Раз за разом представлял, как избежал бы засады, стоило только выбрать в тот день иной путь, как остался бы на свободе, если бы вовремя развернул Баярда. Понимал, что эти навязчивые попытки переиграть прошлое бессмысленны, что сожаления напрасны, но не мог перестать. От собственного бессилия захлестывало невыносимое, как задушенный вопль, отчаяние, и тогда метался по подземелью тигром в клетке. Чтобы не сойти с ума, изыскивал занятия. Развлечений в застенке было мало: можно было пугать летучих мышей, ковырять грязь на полу, скрести стены, мечтать, петь или молиться. Начал было тренировать тело – приседать, подпрыгивать, отжиматься, но скудная плошка риса с бобами и плесневелые лепешки не оставляли сил для движения: трясущиеся руки и ноги быстро сводила судорога, перехватывало дыхание, заходилось сердце. Во дворе можно было беседовать с другими франками, пробовать он заговорить и с магометанскими заключенными. Некоторые отвечали добродушно, а некоторые поносили кафиров. Как каждый живущий в Леванте, Рено знал пару арабских слов и ругательств, но теперь от тоски и скуки принялся усердно осваивать этот общий для всех мусульман язык. Удивительно, как быстро заучивается басурманская тарабарщина, если повторение новых звуков остается единственным развлечением. К тому же это позволяло объясняться с тюремщиками. Али хоть и был сельджуком, но по-арабски говорил охотно и все чаще присаживался на корточки у лаза в яму поболтать с Бринсом Арнатом, которого нынче называл не иначе как «ахиликом», то бишь братом. Видимо, сторожить темницу было столь же безрадостно, как и сидеть в ней. Тюремщик часто что-то декламировал, потом пытался разъяснить сказанное. Рено догадывался, что то были басурманские заклинания из Корана, но все равно старался вникнуть в смысл слов и запомнить их. Али улыбался щербатым ртом и щедро оделял ахилика финиками или оливками.

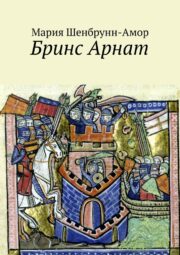
"Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" друзьям в соцсетях.