– Ваше высокопреосвященство, Иерусалим знает о гибели нашей армии, наверняка король уже спешит нам на помощь.
Патриарх покачал головой:
– Увы, у нас об этом нет никаких известий, ни сигналов с соседних крепостей, ни гонцов. Вспомните, дочь моя, Иерусалим Эдессе ничем не помог. Если мы сейчас отвергнем милостивые условия тюрка, а помощь так и не явится, нас ждет судьба тамошних мучеников.
Антиохия была зеницей ока всего христианского мира и единственным достоянием Констанции. Без княжества ее с детьми ожидало жалкое прозябание. Вспомнилось семейство Куртене, потерявшее графство Эдесское.
– Святой отец, надо напомнить проклятой собаке, что ромейский император – наш сюзерен. Он не простит нападения на Антиохию.
Последние победы Мануила заставили даже неверных с ним считаться. Патриарх кисло сморщился при упоминании греческого схизматика:
– Василевс занят собственными войнами, нам ничем не поможет.
Наконец-то Констанция догадалась плотно прижать руки к коленям, чтобы скрыть их предательское дрожание:
– Антиохия неприступна, и если Нуреддин не хочет сидеть под нашими стенами месяцами, ему придется дать нам отсрочку. Это наша единственная надежда.
А вдруг подмога так и не придет? Неужто Констанция превратится в неимущую приживалку? И Алиенор Аквитанская будет торжествовать? Кровь хлынула в глаза, в ушах застучало, такая ярость накатила, что даже неподъемный груз горя исчез. Да она скорее будет подошвы сандалий есть, собственными руками на врагов деготь лить, под сельджукской саблей охотней погибнет, чем уступит ненавистному Зангиду свои владения. Нет. Хватит того, что Алиенор и проклятый тюрок лишили ее супруга. Пока Констанция жива, никто больше не отберет у нее ничего: ни Антиохии, ни власти, ни тех, кого она любит! Овладела собой, выпрямилась, решительно заявила:
– Ваше высокопреосвященство, это мой город, я тут суверенная княгиня, мне решать, и я не распахну ворота Антиохии перед убийцей князя. Мы с сыном не покинем города. Выпросите хотя бы десять дней. Сулите, что хотите. И будь что будет. Исполним долг наш – постоим за колыбель христианства.
Пастырь пожевал губами, недовольно вздохнул, но возражать не решился. Протянул княгине руку для целования, сверкнули алмазы его перстней. Дама Филомена, до сих пор недвижно сидевшая у окна, цаплей вскинула остроносую голову на тонкой шее:
– Эдесса еще и потому погибла, что патриарх Хьюго отказался уплатить солдатам из епископальной сокровищницы. За отсрочку Нуреддину заплатить придется.
Ее Рено, сеньор Маргата, погиб под Инабом вместе с Раймондом, но глаза старой дамы оставались сухими. Для нее неверный умер в тот день, когда завел полюбовницу. Особой причины убиваться о нем именно сейчас, когда изменщик наконец-то получает на том свете по заслугам, дама Филомена не находила. Только руки ее с тех пор оставались праздными, впервые не занятые вечным рукоделием, словно эта Пенелопа потеряла надежду на возвращение своего непутевого Одиссея.
Эмери Лиможский растерялся, выудил из складок облачения муслиновый плат, промокнул вспотевшее чело, зычно высморкался, но Констанция уставилась на прелата так, словно он ей в последнем причастии отказывал. Скуповатый патриарх не выдержал, простонал:
– Не дай мне Бог оказаться виновным в потере города, где проповедовали апостолы, из которого воссиял свет истины мучеников и святых! Дочь моя, ничего не пожалею, дабы убедить алчного нехристя. – Оглядел с тоской капли рубинов, твердь сапфировых граней на костлявых пальцах, присовокупил сокрушенно: – Правильно заметил Квинтилиан: деньги, проклятые деньги – причина всех войн!
Его высокопреосвященству удалось договориться, что Антиохия будет сдана на предложенных Нуреддином условиях лишь через десять дней и только в том случае, если за это время не подоспеет подмога, но цена уступки оказалась выше горы Сильпиус: в обмен на нее с патриаршей казны сбили гигантские ржавые замки и всю ночь из соборных подвалов вытаскивали и тачками свозили к городской стене мешки, туго набитые золотыми светильниками, окладами, драгоценными каменьями, хрустальными кубками, потирами, крестами, кадилами, парчовыми, расшитыми жемчугом облачениями, драхмами, динарами и иерусалимскими серебряными денье с выбитыми на них башнями Давида. Церковная десятина земледельцев и горожан, дары благочестивых людей Всевышнему, подношения исцеленных, – все годами хранившиеся в сундуках патриархата сокровища были спущены на крепких веревках с бастионов прямо в нетерпеливые лапы врагов Господа.
Выжидая оговоренный срок, атабек разграбил земли монастыря святого Симеона и орлом на куропатку напал на Апамею. А дорога из Иерусалима продолжала оставаться безлюдной, и Констанция сходила с ума от страха и надежды. Грануш ворчала, что княгиня бродит по замку бездомной собакой. Того и гляди, она и впрямь окажется бездомной. Оказывается, даже если теряешь самое дорогое, страшно и больно потерять остальное. В последний десятый день сигнальный огонь с донжона соседней крепости подал, наконец-то, долгожданный знак, что армия Бодуэна III в пути. Нуреддин отвел войска.
В очередной раз Господь доказал, что может с такой же легкостью освободить своих сынов от врагов, с какой останавливает солнце или насылает бурю. А Констанция вновь могла предаваться горю без помех.
Там, где было горе, там непременно появлялась Доротея де Камбер. Эта женщина была рождена для монашества и непременно достигла бы святости, если бы ее не выдали замуж еще до того, как она успела превратиться в сущую колючку из господнего тернового венца. Благочестивая дама прошмыгнула в опочивальню княгини с сообщением, что его величество Бодуэн III завтра с утра отстоит поминальную мессу и помолится на гробнице князя.
Констанция отвернулась к стене. Но мадам де Камбер не собиралась покинуть несчастную без надлежащего утешения: с удовольствием завела душеспасительную беседу о неизбежности скорой кончины, Страшном суде и адских муках, не жалея ради страдалицы-вдовы ни красок, ни подробностей. Только возвращение мамушки заставило утешительницу прервать сладостное повествование о бренности всего сущего и пользительности страданий. Грануш брезгливо посмотрела вслед святоше:
– Не женщина, а Псалтырь ходячий! Да лежи спокойно, пупуш мой бедненький, старая татик унесет твою боль! Достаточно моя деточка намучалась. Никому не позволю тебя тревожить. – Плотно прикрыла дубовые ставни, окропила комнату навевающим дрему раствором лаванды и бергамота. – Моя крошка больше никому ничего не обязана. Пусть сами во всем разбираются, пусть кого угодно назначают регентом, а нам и в Латакии будет хорошо. – Добавила мечтательно: – Будем девочек наших потихоньку растить, грехи отмаливать. И Изабо, хоть и дурная коза, а свою госпожу не покинет… а там вырастет наш Бо, займет свой престол. – В голосе мамушки крепла радость.
При упоминании Латакии Констанция отбросила одеяло. О чем это старая татик? Неужто после всех усилий и жертв княгиня останется заживо погребенной в каком-нибудь воняющем бергамотом склепе с няньками и приживалками, а король отдаст ее Антиохию регенту?! С содроганием вспомнила судьбу матери, скончавшейся в латакийском изгнании.
– Не мы первые, не мы последние, – ликовала мамушка, задувая лишние свечи.
– Нет уж, – ожившая Констанция вскочила, птицей заметалась по опочивальне. – Я не Алиса. Меня никто в Латакии не схоронит!
Латинский Восток полон несчастных вдов – постаревших, убогих, жалких, никому больше не надобных, неизбывных и тревожащих, как нечистая совесть. Их скорбные фигуры в заношенных отрепьях затеняют церковные приделы, бедняжки побираются на папертях, торгуют в базарных рядах, вымаливают у сеньоров крошечный надел земли или ничтожный пенсион, за любую работу берутся, на поля наряду с феллахами выходят, идут под венец с многодетными, больными и старыми вдовцами, а если найдется монастырь, готовый принять монахиню без вклада, – с радостью принимают постриг. Но Констанцию – наследницу благородного Тарентского рода, внучку, дочь и вдову героев! – такая судьба не постигнет. Она дикой кошкой будет защищать свое достояние. Законная княгиня Антиохии не намеревается растолстеть, поседеть, отрастить бородавки и вонять камфарой. То единственное, что у нее осталось, – княжество, она не уступит ни Нуреддину, ни Бодуэну III.
Изабо тоже всполошилась:
– Ваша светлость, зачем нам в Латакию?! Да через год вы сможете выбирать себе супруга среди всех баронов королевства!
Завистливо, но осторожно вздохнула, потому что позаимствованное из заветного сундука платье – муаровое, расшитое бледно-желтыми розами – трещало по швам на ее груди, столь щедро благословенной святой Агатой, что лиф уже два раза пришлось штопать под мышками.
У дамы Филомены, как всегда, горькие предупреждения имелись в избытке:
– Это в Антиохии княгине от женихов отбоя не будет. А в Латакию до изгнанницы не всякий доедет.
Мадам Мазуар легко рассуждать, ее душа окоченела еще годы назад, с гибелью сыновей. К тому же самой старухе новый брак не грозит. Княжеству и в самом деле потребен защитник, а королю – дееспособный вассал, и новый супруг защитил бы права Констанции, но от мысли о другом мужчине тошнило. По обычаю вдове полагался год траура, и пока он не истечет, никто не мог заставить ее идти под венец, но если король и бароны заподозрят, что княгиня Антиохии не в состоянии защищать княжество, они не то что год, они и неделю не станут выжидать. Если Констанция, как полагается, продолжит оплакивать кончину супруга шесть недель в траурном затворничестве, ей грозит до конца дней оплакивать собственную планиду.
– Грануш, воду для умывания, парадное траурное одеяние и княжескую корону!
Никогда больше княгиня Антиохии не будет заливаться жалкими, беспомощными слезами в сырой от горя постели, позволяя другим решать собственную судьбу.
Со времен их давней встречи в Акре Бодуэн III из пухлого отрока превратился в высокого, плотного мужа. Кучерявая каштановая бородка оторачивала широкое лицо, а орлиный нос и светлые, чуть навыкате глаза придавали королю сходство с филином. Однако влюбчивую Изабо де Бретолио молодой венценосец пленил еще до того, как выговорили его титул.

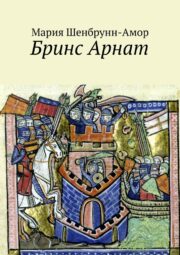
"Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бринс Арнат. Он прибыл ужаснуть весь Восток и прославиться на весь Запад" друзьям в соцсетях.