Виви сорвала розовую обертку и осторожно вынула крохотный стеклянный пузырек — размером с цветок наперстянки. Сосуд был очень старым, и поверх стекла вилась серебряная сеточка. В центре маленькой завинчивающейся крышки зеленела нефритовая горошинка. Виви нерешительно сняла крышку и поднесла пузырек к носу.
— Это не для духов. Для чего-то другого, верно?
— Верно, мама. Для чего-то другого.
Вив задумчиво склонила голову набок.
— Скажи.
— Это называется слезница. Крохотный кувшинчик для слез. В прежнее время это был один из самых драгоценных подарков, который только мог преподнести один человек другому. Это означало, что он разделяет с другом скорбь, которая свела их вместе.
— О, Сидда! — ахнула Виви. — О, дружище!
— Этот, по-моему, относится к викторианской эпохе. Я нашла его в Лондоне несколько лет назад, обшаривая антикварные магазинчики в поисках реквизита.
— И там твои слезы? — спросила Виви, поднимая пузырек.
— Да, но еще осталось много места.
Виви посмотрела на дочь и подмигнула. По крайней мере той так показалось. А может, смаргивала слезу. Потому что в следующую секунду поднесла слезницу к правому глазу и энергично закивала головой, пытаясь стряхнуть слезы в отверстие.
Сидда принялась хохотать. Виви улыбнулась.
— Над чем это ты смеешься, сумасшедшая дурочка? Я ждала такого подарка всю свою жизнь.
— Знаю, — кивнула Сидда, смеясь и плача одновременно. — Знаю.
Но тут Виви встала с качелей и, по-прежнему держа сосуд под глазом, принялась скакать. Сначала на одной ноге. Потом на другой.
Сообразив, что задумала мать, Сидда тоже поднялась и последовала ее примеру, подпрыгивая и наклоняя голову к сосуду, чтобы уронить туда и свои слезы. Виви, со слезницей в руках, и Сидда, с когда-то заложенным, но возвращенным кольцом на пальце, прыгали и плакали. Прыгали, плакали, смеялись и громко, торжествующе, несвязно вопили. Постороннему наблюдателю показалось бы, что эти женщины исполняют странный ритуальный племенной танец. Ритуальный Танец Матери-Дочери Из Едва Не Погибшего, Но Все Еще Могущественного Племени Божественных я-я. Древний обычай передачи слез и бриллиантов. Бриллиантов и слез.
32
Только в начале второго ночи Сидда и Коннор устроились в гостинице «Дом тетушки Мари» на Кейн-Ривер.
— Прямо как в кино, — прошептал Коннор, когда они приближались к дому в стиле креольско-греческого Ренессанса. По обе стороны широкого крыльца шли колонны, а воздух был напоен густыми сладкими ароматами. Мерцание газовых фонарей порождало тени, пляшущие на ставнях и кирпичных стенах, Сидда и Коннор, словно перенесшись назад во времени, очутились в другом веке.
Владелец представился как Томас Лекомт. Проведя Сидду и Коннора через сад к галерее, в номера, устроенные в старых невольничьих бараках позади главного дома, он решил, что эти двое, вполне возможно, родственники, тем более что семья Сидды была ему хорошо знакома.
— Собственно говоря, — начал он, входя в стеклянные двери, ведущие на галерею, — вон тот куст камелии сорта «Румянец леди Хьюм» вырос из черенка, который ваша бабушка по матери дала моему отцу. По-моему, ее звали Мэри Кэтрин Боумен Эббот, верно? Просто гений цветоводства. Чего у нее только не росло! Мой отец тоже был неплох. Помешан на камелиях. Стоило сорвать цветок, и он кричал, что куст обезглавили. Убил бы меня, если бы увидел, как мой садовник обрезал драгоценность вашей бабушки.
Стоя на галерее, Сидда и Коннор смотрели на сад — неистовое изобилие цветущих бегоний, лилий и последних белоснежных листьев каладиума. До них донесся сладкий запах белых цветов имбиря. Окруженный спутанными гривами испанского мха, свисающего с гигантских виргинских дубов, сад прятался за старой кирпичной оградой, увитой плетями розы «Монтана», на которой кое-где еще остались бутоны. В дальнем конце находились фонтан с маленьким бассейном, по одну сторону которого росла персидская сирень, а по другую — мирта с позолоченными и нарумяненными осенью листьями. Различных сортов камелий, азалий, роз, сальвий и жасмина было так много, что красный кирпич, которым был вымощен сад, почти полностью скрылся под зеленью.
Сидда с восхищением разглядывала гигантский куст камелии с большими набухшими бутонами.
— Я и не знала, что Багги — так звали мою бабушку — была столь известным садоводом.
— О, слава такого рода распространяется только в узком кругу единомышленников, — пояснил Томас и, перекрестившись, пробормотал: — Прости меня, папочка.
Коннор, тоже принадлежавший к клану истинных садоводов, прошептал:
— Эта камелия — настоящее сокровище. «Румянец леди Хьюм» такого размера приравнивается к черной жемчужине. Не думал, что они существуют на самом деле.
— Вам давно пора спать, а я вас задерживаю, — всполошился Томас.
Коннор и Сидда смотрели, как он спускается по ступенькам.
— Поверить не могу, что я в Америке! — пробормотал Коннор.
— Ты и не в Америке. Ты в Луизиане. И мы собираемся провести ночь в переделанных под гостиницу невольничьих бараках, словно скопированных прямо с «Саутерн ливин»[90]. Здесь я невольно чувствую себя виноватой. Подумать, сколько несчастий видели эти стены!
Коннор оглядел гостиную, забитую антиквариатом, пушистыми коврами и гравюрами Одюбона[91].
— Верно, много несчастий. Но жизнь текла и здесь. Парочки занимались любовью, рождались дети, люди пели и плакали. Эти стены, вероятнее всего, видели не только страдания, но и радость.
Только когда они улеглись на гигантскую старую кровать, Сидда вкратце рассказала Коннору о примирении с матерью. Но ей не особенно хотелось говорить. Они любили друг друга: коротко, страстно, яростно, сонно, сладостно. Оба устали. Но потом Сидда не заснула сразу. Коннор гладил ее по спине и напевал. Что-то насчет крошечной луковички, растущей под землей, в зимние холода. Он тихо пел до тех пор, пока голос не прервался, а сам он не заснул.
«Если Господь смилостивится, — подумала Сидда, — я буду делить постель с этим мужчиной лет до восьмидесяти».
Через несколько минут она выскользнула из постели, стараясь не разбудить Коннора, и, как была голая, босиком прошла по широким кипарисовым доскам пола, спустилась в сад, в теплую сырую луизианскую ночь и встала перед камелией, черной жемчужиной ее бабки. Еще немного погодя она подобралась к фонтану, окунула руки в маленький бассейн и стала дотрагиваться мокрыми пальцами до губ, глаз и грудей. Вдыхала и выдыхала воздух, просила пощады и милосердия, дарила себе прощение.
Иногда потерянные сокровища можно обрести вновь.
Наутро Сидда прижалась к Коннору и предложила сделать вместе то, на что она никогда не отваживалась раньше в радиусе ста миль от своего родного города. А потом прошептала ему несколько убедительных слов. Услышав все, что она сказала, Коннор молча притянул ее к себе, обнял и стал осыпать поцелуями ее лицо и кончики пальцев.
— Прости за мою идиотскую нерешительность. За то, что заставила тебя висеть на волоске над пропастью.
— Ах, Душистый Горошек, — вздохнул Коннор, переворачиваясь на бок, чтобы смотреть ей в глаза, — мы все висим на волоске над пропастью. И храним друг друга от падения.
Бездонная доброта его глаз, бесконечная нежность в голосе не оставили ни малейших сомнений в том, что она приняла правильное решение.
К полудню они вместе с Шепом и Виви уже пили чай со льдом на заднем дворе Пекан-Гроув. Вилетта, хлопотавшая по хозяйству, стала свидетелем объявления Сиддали Уокер о свадьбе с Коннором Макгиллом ровно через неделю, на поле подсолнечников, перед родительским домом.
Около получаса спустя на подъездной дорожке появились три автомобиля. Это прибыли я-я.
Можно сказать, что теперь шоу было на мази. Еще немного — и занавес поднимется.
33
Вечером 25 октября Сиддали Уокер, одетая в материнское подвенечное платье, сказала «да» Коннору Макгиллу на отцовском поле подсолнечников.
В присутствии родителей, братьев с семьями, сестры Лулу (только что прилетевшей из Парижа), я-я, пти я-я и их семейств, Вилетты с мужем и детьми, Мэй Соренсон (прибывшей в самый последний момент из Турции), родителей Коннора, его же бабушки и двух сестер, Уэйда Конена, сопровождавшего Хьюэлин и перекроившего подвенечное платье Виви так, чтобы оно открывало плечи и часть груди, и компании друзей, которым пришлось срочно изменить планы, чтобы прилететь в Торнтон по настоятельной просьбе невесты, Сиддали Уокер сказала Коннору Макгиллу:
— Буду нежно любить тебя всеми силами души и как только могу.
Семилетняя племянница Сидды Кейтлин Уокер, одна из близняшек Бейлора, позаботилась о том, чтобы все дети (а также кое-кто из взрослых) надели хэллоуинские костюмы. Посторонний, случайно попавший на церемонию, возможно, посчитал бы всех присутствующих сборищем идолопоклонников, если бы не то обстоятельство, что кузен Тинси в продолжение всего действа играл на кейджанской скрипке церковные гимны.
На вечеринке тот же скрипач, вместе с остальными оркестрантами группы «Аллигатор Гри-Гри», играл композиции из кейджанских мелодий и зайдеко[92], переплетавшихся со старыми джазовыми стандартами сороковых, которые им пришлось выучить, чтобы зарабатывать на жизнь в сети загородных клубов южной Луизианы. Под большим древним виргинским дубом, ветви которого стараниями Бейлора были увиты рождественскими гирляндами, Шеп Уокер самолично следил за приготовлением cochon de lait и раздавал восхищенным ньюйоркцам полные тарелки свинины с бурым рисом. Чейни, муж Вилетты, надзирал за огромным черным котлом, где варились креветки. Длинные столы по периметру танцевальной площадки стонали под тяжестью салатов, французского хлеба и еще тысячи луизианских деликатесов.

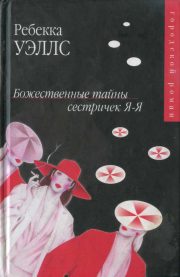
"Божественные тайны сестричек Я-Я" отзывы
Отзывы читателей о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я" друзьям в соцсетях.