— Но я не смогу увидеться с я-я, мама. Как же я уеду, не попрощавшись с ними? Мы все спланировали. Без этого никак нельзя.
— Вы прощаетесь уже целую неделю.
— Я-я — мои лучшие подруги, мать. Я должна с ними увидеться.
Но тут Багги, словно больше не в силах сдержать ярость, швырнула в лицо дочери простыни и подушки, которые все еще держала в руках.
— Прекрати! — злобно прошипела она. — Не желаю больше слышать ни слова о твоих драгоценных я-я. Больше тебе не о ком думать?
— Мама, — попросила Виви, на миг забыв о более формальном обращении, которым обычно пользовалась при разговоре с матерью, — не делай этого, пожалуйста. Они мои лучшие подруги. Я не могу оставить их просто так.
Багги одернула платье и поправила свитер.
— Неужели тебе мало тех страданий, которые ты причинила? Всему есть предел.
Но когда мать вышла из комнаты, Виви подумала: «О нет, мать, ты не права. Предела нет и быть не может».
Когда Пит распахнул перед сестрой дверцу «бьюика», мотор уже был прогрет.
— Боялся, что ты замерзнешь, — пояснил он. — Багги-сука все еще в доме?
— Проверяет, как там Джези. Может, мы опоздаем на поезд.
Пит сверился с часами и обошел вокруг машины, чтобы сесть за руль. Обычная упругая походка сменилась непривычно тяжелыми шагами.
— Хочешь затянуться? — спросил он, прикрывая дверцу.
Виви кивнула. Брат прикурил две «Лаки страйк» и протянул одну ей.
— Прости, что именно мне придется везти тебя, подруга, — пробормотал он.
— Ты-то в чем виноват? — отмахнулась Виви. Пит снял с языка табачную крошку.
— Ну и не твоя вина в том, что здесь так дерьмово.
— О чем ты? — удивилась Виви.
— Что бы ты ни натворила, все равно не заслуживаешь ссылки к проклятым пингвинам.
Виви попыталась улыбнуться:
— Если бы мать знала, что мы прозвали монахинь пингвинами, отправилась бы на тот свет.
— Ну уж нет. Стала бы замаливать наши грехи. Дьявол, она просто обожает каяться.
Пит похлопал себя по карманам куртки, словно искал что-то, и нервно глянул в зеркальце заднего вида.
— Сколько лет у нее руки чесались тебя наказать!
Виви пересчитала сумки с вещами, лежавшие на заднем сиденье, и выглянула в окно. Сад Багги казался почти мертвым. Плети клематиса и розы «Монтана» высохли и побурели.
— Что ты говоришь, Пит? — вздохнула она.
— Сестренка, я твой друг, ты ведь знаешь это, верно?
— Конечно.
— Поверь мне и берегись матери. Она тебя ненавидит. Держи ухо востро.
«Она моя мать. Она не может меня ненавидеть», — упорно думала Виви.
Пит крепко сжал руку Виви, грустно усмехнулся и пожал плечами:
— Я буду скучать по тебе, Вонючка.
Отняв руку, он полез под куртку и вытащил фляжку.
— Это на дорожку. Спер лично для тебя из отцовского бара.
Виви благоговейно, словно дар любви, приняла фляжку и сунула в сумочку.
— Я буду носить ее с собой как друга.
Она поцеловала Пита в щеку и краем глаза заметила серое пальто матери, спешившей к машине.
— Я ничего не скажу о курении, — процедила она, усаживаясь.
— Вот и хорошо, мать, — согласился Пит. — Не говори.
Устроившись на сиденье, мать принялась негромко напевать. Мелодия показалась Виви похожей на «Сальве, Регина»[59]. Питер немедленно начал свистеть, чтобы заглушить пение. По пути Виви опустила зеркальце над козырьком, словно чтобы посмотреть, не попала ли в глаз соринка. Но на самом деле ей хотелось рассмотреть лицо матери. Она сама не знала, что хочет увидеть, но надеялась уловить некое выражение, которое подскажет, как себя вести, что сказать и каким образом избежать изгнания.
Виви так и подмывало попросить мать замолчать и прекратить это идиотское пение. Хорошо бы связать ее по рукам и ногам, как глупую корову, и вывалить в кювет на обочине! А потом схватиться за руль, повернуть машину, нажать клаксон и помчаться по улицам родного города, провозглашая освобождение от этой женщины, считающей себя великомученицей нашего времени.
Но Виви не могла пошевелиться. Слишком тяжела была печаль.
У нее хватило сил только на то, чтобы спросить:
— Нельзя ли нам заехать к Каро? Они рано встают. Или к Тинси? Это по пути. Иногда Женевьева не может уснуть и читает ночи напролет.
— Неприлично врываться в чужой дом в такую рань, — наставительно заметила Багги. — Кроме того, твой отец подчеркнул, что мы должны ехать прямо на вокзал.
«Лжешь!» — едва не воскликнула Виви, но промолчала. Сказать такое означало публично обвинить мать в жестокости.
Виви взглянула на золотые часики с зелеными фосфоресцирующими точками. Четыре пятнадцать утра. Ничто никогда не будет прежним.
Она продолжала изучать Багги, теребившую четки. Она лжет, лжет бесстыдно. Виви в этом уверена. Лжет и счастлива от этого. Почему она так безмятежна?
Еще не рассвело, когда они добрались до вокзала на углу улицы Джефферсон и Восьмой. Пит выбрался из машины и обошел кругом, чтобы открыть ей дверцу. Стоя на обочине, Виви наблюдала за вырывавшимися изо рта клубами пара. Пока Пит таскал вещи в здание вокзала, она судорожно прижимала к себе сумочку и думала о фляжке бурбона. Предвкушение даруемого им утешения удерживало Виви от слез.
— Ты не собираешься попрощаться со мной? — спросила Багги, опустив стекло.
— Прощай, — ровно произнесла Виви. Багги приоткрыла дверцу и слегка повернулась, словно собираясь выйти из машины и приблизиться к дочери.
Виви жаждала подбежать к матери, уткнуться головой ей в колени, обнять и не отпускать, но лишь чуть подалась вперед и, коснувшись руки матери, спросила:
— Мама, о чем ты молишься?
Багги погладила ее щеку и мягко ответила:
— Я молюсь за тебя, Вивиан. Молюсь за тебя, потому что ты лишилась милости Господней.
Но тут пальцы Пита сжали локоть Виви, не давая упасть.
— Ма, — рявкнул он, — отцепись от моей сестры, черт бы все это побрал! — И хлопнул дверцей, оставив мать перебирать четки на заднем сиденье.
Зал ожидания оказался почти пустым, если не считать спящих солдат, увидев которых Виви сразу вспомнила о Джеке.
Купив билет, они с Питом уселись на длинную деревянную скамью. Виви попыталась вообразить, что все это происходит в кино.
Прелестная молодая девушка тоскует о возлюбленном.
Наезд камеры. Крупный план.
Она сидит вместе с братом на вокзале, ожидая окончания войны. Несчастная и одинокая, она тянется к единственному оставшемуся ей утешению.
Выглянув за дверь и убедившись, что мать не собирается выходить, Виви вынула фляжку и протянула Питу.
— Ты первая, подруга, — отказался он, и Виви глотнула из фляжки.
Бурбон маслянистым шариком прокатился по горлу и упал в желудок. Она выждала секунду, прежде чем сделать второй глоток, чувствуя, как тепло разливается по телу, невольно связывая вкус виски с прежними, добрыми временами, с сознанием собственной желанности. С тем немногим, что знала о сексе. После третьего глотка Виви пожалела, что у нее нет еще одной фляжки, а еще лучше — пары бутылок виски в чемоданах.
Она передала фляжку Питу. Тот глотнул и отдал ее обратно.
— Дай мне руку, — велел он.
Виви протянула раскрытую ладонь. Пит с размаху шлепнул в нее тяжелый маленький предмет. Опустив глаза, Виви увидела карманный нож, самую дорогую вещь брата, которой всегда восхищалась. Она поднесла нож к носу и понюхала серебряную с красным рукоять, Рукоять пахла Питом. Пахла мальчишкой.
— Парень всегда должен иметь при себе нож, Виви. Это выручит тебя из кучи неприятностей. Если кто-то из этих пингвиних достанет тебя, ткни ей в зад ножом и беги со всех ног!
— Спасибо, Пит, — пробормотала Виви, стараясь улыбнуться. И за оставшееся время вырезала свое имя на спинке скамьи.
ВИВИАН ЭББОТ.
— Мемориальная скамья Виви Эббот, — пошутил Пит.
— Теперь никто меня не забудет, — вздохнула Виви.
Пит вошел вместе с ней в вагон, держа саквояж, который Виви решила взять с собой, и порывисто обнял сестру.
— Я люблю тебя, Вонючка.
— И я тебя, Пит.
Пит повернулся к проводнику-негру:
— Присмотрите за моей сестренкой, хорошо? Вы везете ценный груз.
— Да, сэр, — кивнул тот, улыбаясь Виви.
После ухода Пита Виви вынула фляжку, сделала два глотка и заплакала.
Вивиан Джоан Эббот, шестнадцати лет, сидела в поезде Саутерн — Кресент в своем голубом свитере из ангоры поверх кремовой юбки в складку. Она запахнула на горле лисий воротник тяжелого синего пальто и изо всех сил попыталась уверить себя, что ее собственные руки были руками Джека. И еще изо всех сил попыталась уверить себя, что все ее обожают.
«26 января 1943 г.
Дорогая Каро!
Все девочки в этой школе — настоящие уродины. Я не имею в виду некрасивые. Не имею в виду невзрачные. Именно уродливые. В этой школе учатся два типа девиц: 1) дочери религиозных фанатиков; 2) плохие девочки, которых необходимо наказать. Думаю, я подпадаю под обе категории.
От этих уродин еще и воняет. Все это место смердит кислой капустой и стариковскими носками. Один этот запах — достаточное наказание за восемьдесят четыре тысячи смертных грехов. Общий замысел примерно такой: повинуйся Церкви, исповедуйся в грехах и умри. Все идет от матери-настоятельницы, Бориса Карлоффа[60] монашеского мира.
Моя здешняя комната — не комната. И даже не чулан. Это загон, дыра, тюремная камера. В ней стоят топчан, стул и тазик с водой на маленьком комоде. Ни одного шкафа. Только крючки на стене.
Я спросила монахиню, приведшую меня сюда, где мой шкаф. Та ответила, что у меня нет никакого шкафа. Словно я попросила у нее номер в «Гранд-отеле».

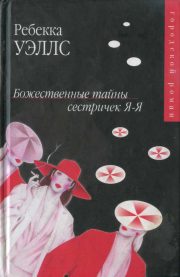
"Божественные тайны сестричек Я-Я" отзывы
Отзывы читателей о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Божественные тайны сестричек Я-Я" друзьям в соцсетях.