– Ты устал? Хочешь, чтоб я ушла?
Он сделал ещё усилие, широко открыл глаза цвета бретонского моря, выражая каждой чертой стремление быть красивым и бодрым, мужественно расправил ссутуленные плечи:
– Разве я похож на усталого мальчика? Смотрите, Госпожа Мама!
Она в ответ только шутливо кивнула, поцеловала сына и направилась к выходу, унося в себе перехваченные вопли любви, заглушённые заклинания, мольбы, чтобы болезнь ушла, освободила от оков длинные бессильные ноги, исхудалое, но не обезображенное тело, вновь дала оскуделой крови свободно бежать по зелёным веточкам вен…
– Я положила на тарелку два апельсина. Не надо потушить лампу?
– Я сам потушу, Госпожа Мама.
– Господи, где у меня голова? Мы не смерили вечернюю температуру!
Пелена тумана встала между гранатовым платьем Госпожи Мамы и её сыном. В этот вечер Жан горел в жару с тысячью предосторожностей: тихий маленький огонёк тлел в ладонях, ву-ву-ву – стучало в ушах, а виски охватывали горячие дуги…
– Завтра обязательно смерим, Госпожа Мама.
– Груша звонка у тебя под рукой. Ты уверен, что тебе не хочется, чтобы, когда ты один, здесь горел ночник, такой, знаешь, маленький ноч…
Последний слог оступился в складке темноты, и Жан рухнул вместе с ним. «И совсем ведь маленькая складочка, – упрекал он себя, падая. – На загривке, должно быть, огромная шишка. А между тем Госпожа Мама не заметила никакого падения. Она была слишком поглощена всем тем, что уносит отсюда по вечерам в подоле юбки: молитвами, замечаниями для врача, горем, которое я ей причиняю, не соглашаясь, чтобы со мной сидели по ночам… Всем, что она уносит в подхваченной юбке и что вываливается через край и катится на ковёр… бедная Госпожа Мама… Как бы заставить её понять, что я не несчастен? Считается, что не может мальчик моих лет быть прикованным к постели, бледным, безногим, терпеть боль – и не быть несчастным. Несчастным… несчастным я был, когда меня ещё возили гулять… На меня обрушивался ливень взглядов. Я весь сжимался, чтоб их досталось мне поменьше. Я был мишенью для града всяких «Какой хорошенький!» и «Какая жалость!». Теперь у меня только и несчастий что визиты моего кузена Шарли, его ободранные коленки, его ботинки с шипами и это слово «бойскаут», полусталь, полукаучук, которым он меня крушит… И эта хорошенькая девочка, которая родилась в один день со мной и которую называют то моей молочной сестрой, то моей невестой. Она занимается танцами. Она видит, что я лежу, и вот подымается на цыпочки и говорит: «Смотри, как я стою на пуантах». Но это просто дразнилки. Вечером настаёт час, когда дразнилки засыпают. И тогда всё хорошо».
Он погасил лампу и умиротворённо глядел, как воздвигается вокруг его ночное общество, хор красок и форм. Подождал симфонического вступления и полного сбора толпы, которую Госпожа Мама называла его одиночеством. Вытянул из-под локтя грушу звонка – лунной эмали игрушку для больных – и положил её на столик у изголовья. «Теперь свети!» – приказал он.
Она не повиновалась сразу. Ночь была не настолько темна, чтобы нельзя было разглядеть качающуюся за окном верхнюю ветку каштана на бульваре, облетевшую, взывающую о помощи. Её утолщённый кончик подделывался под чахлый розовый бутон. «Ну да, ты пытаешься меня разжалобить, твердя, что ты почка будущей весны. Однако тебе известно, как неприступен я для всего, что говорит мне о будущем годе. Оставайся на улице. Исчезни. Сгинь! Как сказал бы мой кузен – проваливай…»
Его брезгливость восстала, лишний раз заклеймив этого кузена со ссадинами и синяками на коленках, его лексикон, уснащённый всякими «ну прямо», «во даёт», «слабо», «умора», а главное – «подумаешь!» и «понятно!», словно мысль и понимание могли не разбежаться в ужасе, со всех своих нежных лапок премудрых сверчков, от такого мальчишки, обутого в шипы и засохшую грязь…
При одном только виде кузена Жан обтирал пальцы платком, как от крупного песка. Ибо Госпожа Мама и Мандора, становясь между ребёнком и неприглядностью, ребёнком и грубыми словами, ребёнком и низкопробным чтивом, приучили его понимать и любить лишь два вида роскоши: утончённость и страдание. Оберегаемый, не по летам развитый, он быстро овладел типографскими иероглифами, уходя в книги так же самозабвенно, как объезжал облака, покорял страны, вырисовывающиеся на полированных поверхностях, или окружал себя всем, что для подобных ему избранных тайно населяет воздух.
Он не пользовался серебряной авторучкой, украшенной его гравированными инициалами, с того дня, когда его беглый и взрослый почерк поразил удивлением и, можно сказать, оскорбил врача с холодными руками: «И это – почерк ребёнка, мадам?» – «Да, доктор, у моего сына такой установившийся почерк…» И глаза Госпожи Мамы тревожно и виновато спрашивали: «Но это не опасно, доктор?»
Воздерживался он и от рисования, опасаясь, что какой-нибудь набросок подведёт его, выболтает лишнее, ибо, попробовав как-то изобразить Мандору со всей клавиатурой её внутренних созвучий, силуэт алебастровых часов на полном ходу – тряском галопе, пса Рики с руками парикмахера и с причёской «под Орлёнка», как у него самого, Жан, испуганный схваченным сходством, предусмотрительно порвал свои первые произведения.
– Не хотите ли, мой юный друг, альбом и цветные карандаши? Это хорошее развлечение, как раз для вашего возраста. – На предложение, которое он счёл выходящим за рамки медицины, Жан ответил только взглядом, сжатым ресницами, – суровым мужским взглядом, смерившим врача-советчика. «Мой милый парикмахер – тот не позволил бы себе таких речей!» Он не прощал врачу вопроса, который тот дерзнул однажды задать в отсутствие матери: «А какого чёрта вы зовёте вашу матушку госпожой?» Гневный взгляд мужчины и слабый мелодичный голос объединились, чтобы дать ответ: «Я не думаю, что чёрт имеет к этому какое-либо отношение».
Парикмахер, милый косец, иначе понимал свои обязанности и рассказывал Жану как проводит воскресенья.
По выходным он удил рыбу в окрестностях Парижа. Блистающим взмахом ножниц он показывал, как забрасывают подальше поплавок и наживку, и Жан жмурился от свежих брызг, разлетающихся колесом, когда рыбак победоносно выдёргивает отягощённую лесу…
– Когда вы поправитесь, господин Жан, я возьму вас с собой на речку…
– Да, да, – соглашался Жан, не открывая глаз. «Зачем им всем надо, чтоб я поправился? Я и так на речке. Что бы я делал с «вот-таким-с-мою-ладонь» голавлем или с «вот-таким-с-этот-нож» щурёнком?
– Расскажите ещё, милый парикмахер…
И он слушал про ночных бабочек, прилепившихся под аркой маленького моста, – импровизированную наживку, на которую был пойман «целый вагон» форели при помощи орехового прута, вырезанного из изгороди, и трёх связанных вместе обрывков бечёвки…
Под аккомпанемент бойкого и бодрящего чириканья ножниц начинался рассказ:
– Вы доходите до паршивенькой протоки, вот-такой-ширины-с-мою-ляжку, которая расширяется, пересекая луг. Видите две-три ветлы рядышком и молодую поросль: это и есть то место…
«Это и есть то место, – повторял про себя Жан. – Я знаю, что это оно и есть…»
Вокруг двух-трёх ветел Жан с первого же дня посадил высокие колючки жёлтого репейника, извлечённые из большого ботанического атласа, и коноплю с розовыми соцветиями, заманивающими и усыпляющими бабочек и усталых детей. Чудовищная оболваненная голова самой старой ветлы, оплетённая белым вьюнком, корчит Жану гримасы. Всплеск рыбы вспарывает зеркальную кожу реки, ещё один всплеск… Милый парикмахер, возящийся с наживкой, оборачивается.
– Ишь, издеваются!.. Ничего, мои будут.
– Нет, нет, – уверяет Жан, – это я бросил в воду два камешка…
Поёт лягушка, длится воображаемый полдень… «Поёт лягушка, – грезит Жан, – поёт невидимкой на листе кувшинки, это её плот… А плод – это если через «д» – он круглый, висит на ветке и никуда не плывёт…»
Косец белокурого руна, река и луг исчезали, как сон, оставив у Жана на лбу прозаический сладковатый запах, волнистый белокурый хохолок… Пробудившись, Жан слушал шёпот в гостиной, долгое совещание вполголоса между Госпожой Мамой и доктором, из которого вырывалось одно слово и являлось к Жану, порхающее и кудрявое, слово «кризис». Иногда оно входило церемонное, женственное, убранное для раздачи наград – «х» на ушке, «и» на корсаже: Хризи, Хризи Благотвор. «Правда? Правда?» – настойчиво допытывался голос Госпожи Мамы. «Я сказал – возможно…» отвечал голос доктора, нетвёрдый на одну ногу и спотыкающийся. «Возможно, благотворный, но риск…» Хризи Благотвор-Нориск, юная креолка из Южной Америки, такая изящная в своём белом платье с воланами…
Тонкий слух ребёнка ловил ещё одно имя, которое, несомненно, следовало держать в тайне. Имя неполное, не то Лио Мелита, не то Мио Лилит, и в конце концов он решил, что речь шла о девочке, тоже скованной болезненной неподвижностью, с такими же длинными бессильными ногами, о которой говорят потихоньку, чтоб он не ревновал…
Повинуясь полученному приказу, ветка каштана со своей вестью будущей весны потонула во тьме. Грушевидная сонетка, хоть Жан и повторил команду, не озарила своим опаловым, мягко очерченным световым кругом столик у изголовья и его ношу: минеральную воду, апельсиновый сок, разрезальный нож, таящий в себе альпийскую зарю, близорукие часы с толстым выпуклым стеклом и термометр… Ни одна книга не ждала выбора Жана на столике. Печатные тексты, каков бы ни был их формат и вес, закрытые – спали, распахнутые бодрствовали в одной постели с больным ребёнком. Многослойные напластования переплётов в изножье кровати иногда давили – но мальчик не жаловался – на ноги, иссушаемые скаредной жизнью.
Руками, сохранившими подвижность, он пошарил вокруг, подгрёб к себе несколько книжек в бумажных обложках, растрёпанных и тёплых. Старинный том дружески боднул его из-под подушки. Валик из бумажных книжек примостился у худенького мальчишеского бедра, а нежная детская щека прижалась к столетнему переплёту белой телячьей кожи. Под мышкой – Жан удостоверился, что он на месте, – твёрдый излюбленный сожитель, толстый том, кряжистый, как булыжная мостовая, ворчун и силач, который находил кровать чересчур мягкой и обычно к утру оказывался на полу, на белой козьей шкуре.

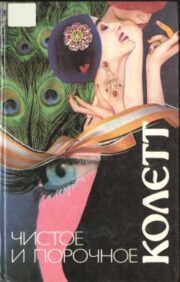
"Больной ребенок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Больной ребенок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Больной ребенок" друзьям в соцсетях.