Когда она затверженным движением сблизила лампу и разрезальный нож, Жан проверил, на месте ли блик на длинном хромированном лезвии, розовый, как снег на заре, с голубыми тенями, – сверкающий мятный пейзаж. Потом уткнулся левым виском в подушку, послушал шелест капель и фонтанов, издаваемый белыми конскими волосинками внутри наволочки под тяжестью его головы, и прикрыл глаза.
– Но, мой мальчик, тебе пора обедать… – нерешительно сказала Госпожа Мама.
Больной ребенок сочувственно улыбнулся матери. Надо всё прощать тем, кто здоров. К тому же он ещё не совсем оправился после падения. «Успеется», – подумал он и придал своей улыбке убедительности, с риском, что Госпожа Мама – как бывало с ней при виде некоторых улыбок, слишком совершенных, слишком безмятежных, которым она одна придавала скрытый смысл, – утратит самообладание и поспешно выйдет из комнаты, ударившись об дверь.
– Если тебе всё равно, милый, я пообедаю одна в столовой после того, как ты покушаешь.
«Да, да, конечно», – трижды согнувшись, ответил белый снисходительный пальчик.
«Мы знаем, знаем», – добавили веки, окаймлённые длинными ресницами, дважды мигнув. «Мы знаем, какая чувствительная дама эта Мама, у которой на глазах вдруг повисают две слезы, как два драгоценных камня… Бывают драгоценные камни для ушей… Серьги, у Госпожи Мамы серьги на глазах, когда она думает обо мне. Что же она, никогда ко мне не привыкнет?.. Какая неразумная…»
Когда Госпожа Мама наклонилась к нему, он поднял руки, сохранившие свободу движений, и, по заведённому ритуалу, повис на шее матери, которая выпрямилась, гордая своей ношей, поднимая худенькое тело слишком большого мальчика – хрупкий торс, за ним длинные ноги, сейчас безжизненные, но умевшие властно стискивать бока пугливого облака…
Потом Госпожа Мама полюбовалась своим прелестным немощным творением, сидящим, опираясь на жёсткую подушку в форме пюпитра, и воскликнула:
– Ну вот! Сейчас тебе принесут поднос. Но пойду-ка я потороплю Мандору, она вечно опаздывает!
Она снова вышла.
«Она выходит, входит… Больше всего выходит. Она не хочет меня оставлять, но то и дело выходит из комнаты. Она уходит стереть свои две слезы. Она находит сотню предлогов, чтобы выйти из комнаты; если бы их ей вдруг не хватило, я придумал бы ей тысячу. Мандора никогда не опаздывает».
Он бережно повернул голову, чтобы видеть входящую Мандору. Разве не было правильно и неизбежно, что пузатая, золотая, звучно отзывающаяся на малейший толчок, так стройно сочетающая прекрасный голос и глаза, блестящие, как драгоценное дерево лютни, эта дюжая служанка звалась Мандорой? «Если бы не я, – думал Жан, – её до сих пор звали бы Анжелиной».
Мандора пересекла комнату; её полосатая жёлто-коричневая юбка, задевая мебель, издавала глубокий виолончельный гул, слышный одному Жану. Она поставила поперёк постели маленький столик на низких ножках, покрытый вышитой салфеткой, на которой стояла дымящаяся чашка.
– Вот и обед!
– Что это?
– Сперва фосфатин, а как же! Потом… Сами всё увидите.
На всё полулежачее тело больного ребёнка излился отрадный, крепкий карий взгляд, раздольный, утоляющий: «Какое оно хорошее, это тёмное пиво Мандориных глаз! Как она – она тоже – добра ко мне!.. Как все ко мне добры!.. Если б они немножко сдерживались…» Изнемогая под бременем всеобщей доброты, он закрыл глаза и открыл их на позвякивание ложек. Чайные ложки, столовые ложки, десертные ложки… Жан не любил ложек, делая исключение для странной серебряной ложечки, у которой был длинный витой черенок с узорчатым диском на конце. «Это чтобы крошить сахар», – говорила Госпожа Мама. – «А другой конец?» – «Не знаю. Кажется, это была ложка для абсента…» И тут её взгляд почти всегда обращался к фотографии отца Жана, мужа, которого она потеряла такой молодой – «твой милый папа, Жан», – и которого Жан холодно обозначал словами – словами непроизносимыми, секретными – «тот господин, что висит в гостиной».
Кроме ложечки для абсента – абсент, абсида – Жану нравились только вилки, демоны о четырёх рогах, на которые вздевались комочек баранины, конвульсивно изогнувшаяся жареная рыбка, кружок яблока с глазками-семечками, ломтик абрикоса – месяц в первой четверти – под сахарным инеем…
– Жан, голубчик, открой клювик…
Он повиновался – закрыл глаза и выпил лекарство, почти безвкусное, если не считать мимолётной, но не подлежащей оглашению приторности, маскировавшей худшее… В тайном словаре Жана это снадобье называлось «овраг с трупами». Но ничто никогда не вырвало бы у него, не бросило задыхающимися к ногам Госпожи Мамы такие чудовищные слова.
За этим последовал неизбежный фосфатиновый суп – плохо выметенный амбар с забившейся в углы старой мукой. Но ему всё прощалось за то неуловимое, что витало над светлым отваром: некое цветочное дуновение, пыльный аромат васильков, которые Мандора покупала Жану пучками на улице в июле…
Маленький кубик жареного барашка исчез быстро. «Бегите, барашек, бегите, я приветствую вас, ступайте ко мне в желудок целиком: я не стану жевать вас ни за что на свете, ваше мясо ещё блеет, и я не хочу знать, что оно розовое внутри!»
– Ты что-то очень быстро ешь сегодня, Жан!
Голос Госпожи Мамы падал сверху из сумрака, может быть, с лепного гипсового карниза, может быть, с большого шкафа… Особая благосклонность Жана даровала Госпоже Маме возможность достигать высей шкафа, климатического пояса свежего белья. Она забирается туда с помощью стремянки, скрывается за правой дверцей и спускается, нагруженная плитами высокогорного снега. Её честолюбие ограничивается этими трофеями. Жан заходит дальше, выше, устремляется один к девственным вершинам, проныривает между двумя одиночными простынями, выныривает в складке аккуратно свёрнутого постельного комплекта – а какие глиссады, какие головокружительные спуски между строгими камчатными скатертями, по горе с морозными узорами и греческой каймой, как хрустят стебельки сухой лаванды, зёрнышки её цветков, толстые сливочные корневища ириса…
Вот откуда он возвращается на рассвете, когда лежит в постели закоченевший от холода, бледный, обессиленный и хитрый: «Жан!.. Господи, опять он раскрылся во сне! Мандора, скорее грелку!» Жан втихомолку торжествует: успел, как всегда, вернуться вовремя – и отмечает на невидимой странице дневника, спрятанного в живом и трепетном уголке в боку, который он называет «сердечным карманом», подробности спуска, звездопад и оранжевый перезвон вершин, тронутых зарёй…
– Я потому быстро ем, Госпожа Мама, что я проголодался.
Ибо он старый хитрец, и ему ли не знать, что, услышав «я проголодался», Госпожа Мама зардеется от радости?
– Правда, милый? Жаль, что на десерт я тебе приготовила только яблочное повидло. Но я попросила Мандору добавить для запаха лимонной цедры и палочку ванили.
Жан храбро бросил вызов Повидле, кислой провинциальной юной особе лет пятнадцати, питавшей к десятилетним мальчикам, как все девицы её возраста, лишь высокомерное презрение. Но разве он не платит ей тем же? Или у него нет против неё оружия? Разве не бойко он ковыляет, опираясь на ванильную палочку? «Коротка палочка, опять коротка», – ворчал он на свой неслышный манер…
Вернулась Мандора, и её пузатая юбка с широкими полосами вздувалась со всех сторон, как дыня. При каждом её шаге звучали – только для Жана: дзромм, дзромм – скрытые струны, которые были самой душой, богатой гармонией Мандоры…
– Вы уже скушали весь обед? Так быстро? Он пойдёт обратно. Вы так не привыкли.
Они стояли у его постели – Госпожа Мама по одну сторону, Мандора по другую. «Какие они большие! Госпожа Мама в этом бордовом платьице не занимает много места в ширину. Но Мандора, кроме своего резонатора, ещё расширяется за счёт двух гнутых ручек, когда вот так подбоченивается». Жан решительно разделался с повидлом – размазал его по тарелке, развёз узорами по золотому ободку, и с обедом в очередной раз было покончено.
Зимний вечер давно наступил. Смакуя свои полстакана минеральной воды – воды тонкой, бегучей, лёгкой, которая казалась ему зелёной, потому что он пил её из бледно-зелёного бокала, – Жан рассчитывал, что ему понадобится еще немного мужества, чтобы завершить дневной распорядок больного. Ещё приготовления ко сну, кропотливые и неотвратимые заботы, требующие помощи Госпожи Мамы и даже – дзромм, дзромм – звучного и весёлого участия Мандоры; ещё зубная щётка, губка, ласковое мыло и тёплая вода, обоюдные старания не замочить простыни; ещё нежные материнские дознания…
– Мой маленький, ты не сможешь так спать: переплёт большого Доре упирается тебе прямо в бок, да ещё эти кучи книжек в постели – у них такие острые углы… Хочешь, я придвину столик?
– Нет, спасибо, Госпожа Мама, мне так очень хорошо…
По окончании туалета начиналась борьба с опьяняющей усталостью. Но Жан знал пределы своих сил и не пытался избежать ритуала, предваряющего ночь и чудеса, которые мог породить её каприз. Он боялся только, как бы заботливость Госпожи Мамы не продлила день за пределы возможного, не разрушила вещественную декорацию книг, мебели, равновесие света и тени, утверждённые и соблюдаемые Жаном ценою последних усилий до крайнего срока – десяти часов. «Если она задержится, настоит, захочет поухаживать за мной ещё, когда большая стрелка отклонится вправо от XII, я почувствую, что бледнею, всё больше и больше бледнею, глаза вваливаются, я не сумею даже выговорить всех этих «нет-спасибо-Госпожа-Мама-всё-хорошо-спокойной-ночи», которые ей совершенно необходимы, и… и это будет ужасно, она заплачет..»
Он улыбнулся матери, и величие, даруемое болезнью детям, которых она поражает, засветилось в пламенных извивах его кудрей, опустилось на веки, горько утвердилось на губах. То был час, когда Госпоже Маме хотелось бы раствориться в созерцании своего творения, гибнущего и пленительного…
– Спокойной ночи, Госпожа Мама, – очень тихо проговорил ребёнок.

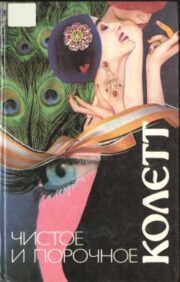
"Больной ребенок" отзывы
Отзывы читателей о книге "Больной ребенок". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Больной ребенок" друзьям в соцсетях.