Они уставились на него, пооткрывав рты от неожиданности.
— Но, сэр, — заикнулся было Питерсон, — если вы решили прогуляться…
— Я не намерен гулять. Я сажусь за руль.
Шофер резко вскинул голову. Питерсон побледнел.
— Но, сэр! Сэр, я могу повести машину, если вы хотите отпустить Уилсона домой…
— Не хотите ли вы разозлить меня, Питерсон?
— Нет, сэр, но…
— Тогда делайте, что я говорю, и отправляйтесь домой. — Оба молча удалились, а мы забрались в машину. — Ну их к дьяволу! — проговорил Пол, нажал ногой на стартер, и двигатель величественно ожил. — Всех к дьяволу! Ладно, Дайана, закройте глаза и молитесь — мы едем на угол Уиллоу и Уолл-стрит!
Машина рванулась вперед, и я вцепилась в сиденье.
— Пол, вы когда-нибудь раньше водили машину?
— Я постоянно водил машину до войны, когда вождение было поистине настоящим приключением! А позднее, когда это стало заурядным делом, потерял к нему интерес.
Повернув налево, машина помчалась по очередному широкому и прямому нью-йоркскому бульвару, а потом направо, в боковую улицу.
— Поедем по Лексингтон авеню, через Двадцать третью, до Бродвея, — проговорил Пол, когда мы нырнули под железнодорожный путепровод. — Вам очень страшно?
— Нет, нет. Что, машина уже летит по воздуху, или вы только собираетесь оторваться от земли?
Пол разразился смехом, а автомобиль тем временем, взвизгнув тормозами, ворвался на Лексингтон авеню, вызвав яростные гудки, по меньшей мере, трех таксистов.
Бродвей показался нам более спокойным, чем мы ожидали, после того, как мы без приключений проехали в нижнюю часть острова. Когда я поняла, что мы выехали из потока напряженного движения в деловой квартал города, вечером как всегда пустынный, я даже расслабилась на своем сиденье, и езда стала доставлять мне удовольствие. Я, разинув рот, удивленно смотрела на совершенно сельское на вид большое кладбище, окружавшее старую церковь, когда Пол повернул машину налево, и мы нырнули в глубокие тени узкой вьющейся улицы.
— Это церковь Тринити — Троицы, олицетворяющей Бога, — заметил Пол, — а вот и Уолл-стрит, олицетворяющая Маммону. Поскольку это Нью-Йорк, нет нужды гадать, что пользуется большим покровительством высшей силы. Вот и Фондовая биржа. — Пол замедлил ход автомобиля, — а то здание в греческом стиле, выше по улице — Отделение Казначейства…
— А что это за громадный белый дворец там, на углу?
— Это дом номер один по Уиллоу-стрит. Как мне льстит то, что вы совершенно не обратили внимания на Дом Моргана, мимо которого мы только что проехали! Ну, а теперь дайте мне подумать, как остановить эту машину. Может быть, если сумею выключить двигатель, то найду где-нибудь и тормоз?
Я пронзительно закричала, но он, поддразнивая меня, остановился точно перед ступенями лестницы, поднимавшейся ко входу между колоннами. У служебного входа нас встретил ночной сторож.
— Сколько этажей в этом здании принадлежит банку? шепотом спросила я, входя на цыпочках в овальный вестибюль, где до самого потолка, угадывавшегося где-то высоко во мраке, высились мраморные колонны.
— Все до одного, естественно. На верхнем этаже у нас находятся операторы, дежурящие у телефонов, экспедиция, столовая для партнеров и кухни. На четвертом сидят налоговые эксперты, экономисты и отдел рекламы, а под ними, на третьем, железнодорожный отдел, там же международный отдел и муниципальная группа. Личные кабинеты партнеров, конференц-зал и библиотека на втором этаже, а на первом, цокольном, как сказали бы в Англии — операционный зал синдиката и кабинет старшего партнера, ну и его клерки и аналитики, которые со времени слияния занимают большой зал. И уж если мы вспомнили о нем, подойдите сюда и посмотрите на него, когда я включу свет.
Когда щелкнули выключатели, я стояла между двумя колоннами, и перед моими глазами расцвел Ренессанс. Передо мной был громадный сверкающий зал. Над нашими головами сияли огромные люстры, а выше дубовых панелей, которыми были отделаны стены, поднимались вверх изящные высокие окна. Тусклое масло темных портретов пробуждало представление о длинной галерее какого-нибудь постсредневекового особняка. За деревянными барьерами, высотой до пояса, по обе стороны широкого зала стояли многочисленные конторки красного дерева, словно задремавшие геральдические животные.
Я долго любовалась этим зрелищем, пока не поняла, что меня ждал Пол. Я посмотрела на него. Мысли мои были слишком примитивными, чтобы выражать их словами, но я знала, что он умел заглянуть в них и расшифровать.
Пол улыбался.
По-прежнему молча мы прошли по длинному залу и, выйдя из дверей в его заднем конце, оказались в другом зале, откуда на следующий этаж вела винтовая лестница с коваными железными перилами.
Секундой позже я была уже в помещении из двух смежных комнат, с очень гармоничным соотношением размеров. Одна была обставлена как библиотека, тогда как другая, которую я видела лишь смутно за арочным проходом, казалась какой-то своеобразной приемной. Назвать ее «гостиной», что предполагает болтающих между собой викторианских леди, было бы в таком окружении неуместно и даже банально.
Мы по-прежнему молчали.
Я разглядывала греческую вазу, полотно Рембрандта, старинные издания в кожаных переплетах и безупречную коллекцию английской мебели восемнадцатого века. Единственной аномалией здесь был ковер, толстый, мягкий и вполне современный, цвета американских денег.
Я инстинктивно нагнулась, чтобы его пощупать, и, когда погрузила пальцы глубоко в роскошную шерсть, услышала, как Пол повернул ключ в дверном замке.
Качество нашего молчания вдруг изменилось. Я почувствовала, как между нами словно заструилось электрическое возбуждение, и поняла, что вокруг нас сомкнулась какая-то необратимая атмосфера богатства и могущества.
Быстро обернувшись, Пол снял со стены одну из картин, открыл оказавшийся за нею сейф и извлек из него пачку денег. Когда он движением руки разложил банкноты веером, как картежник, открывающий выигрышные карты, я увидела, что это были совершенно новые, хрустящие стодолларовые билеты.
— Это заключительный аккорд убранства моего интерьера!
Я принялась хохотать. Расхохотался и он и внезапно подбросил вверх банкноты, дождем опустившиеся на нас, как конфетти.
— О, Пол, Пол…
Я не могла больше смеяться. Я уже с головой ушла в поднимавшуюся волну нашей чувственности, и в тот же миг он оказался рядом со мной на этом мягком, волнистом ковре. Губы его властно прижались к моим.
Глава третья
— Вы мое зеркальное отображение, мое второе я.
— Совсем как в одной из тех противных легенд Шиллера о втором я?
— Это Гейне. — Пол улыбнулся, поцеловал меня и снял с меня тяжесть своего тела. Я лежала в оцепенении насыщения и утратила всякое представление о времени. Вероятно, я сильно перепила. — Боже, как мне вас не хватало! — проговорил он, когда я из последних сил снова потянула его на себя.
Стодолларовые банкноты прилипли к его вспотевшей спине, другие путались в моих разметавшихся волосах.
— О, Пол! — воскликнула я, внезапно охваченная приступом тоски, часто овладевающей человеком после акта любви, и разразилась слезами.
— Бедная, маленькая девочка, я не хотел больше вам писать… я хотел навсегда отрезать себя от вас, хотел, чтобы вы вышли замуж за этого доброго парня Джеффри Херста…
— Не говорите вздор, Пол. Мне никто не нужен, кроме вас.
— Нет, Дайана. Мы упустили время. Вы слишком молоды, чтобы перерезать пуповину, связывающую вас с Мэллингхэмом, а я слишком стар, чтобы начинать все сначала в другом мире.
— Чепуха! Мы снова вместе, совсем как в тысяча девятьсот двадцать втором году, за тем, разве, исключением, что я одна шла эти годы по окольным путям времени! Как бы то ни было, как вы можете говорить, что мы упустили время, когда у нас есть Элан? Вы совершенно нелогичны, Пол.
Он ничего не ответил, озарил меня своей сияющей улыбкой и стал целовать. Я ждала, что он снова возьмет меня, но он отодвинулся, потянулся за своей рубашкой и предложил мне еще немного бренди.
— Если я выпью еще хоть каплю, вам придется выносить меня отсюда на руках! — Я подсознательно спрашивала себя, уж не его ли недавнее нервное истощение сделало его таким пессимистом, но инстинкт подсказывал мне, что он тщательно обходит тему своей болезни. Если он действительно страдал импотенцией, то напоминать ему об этом было бы последним делом. — Пол, — заговорила я, меняя тему разговора на ту, которая, как я надеялась, окажется более удачной, — поговорим об Элане…
Пол застегивал пуговицы на рубашке.
— Да? — вежливо отозвался он, когда я замолчала. И не поднял глаз.
— Бога ради, Пол! — взорвалась я. — Почему вы не хотите о нем говорить? Мы провели целый вечер вместе, а вы едва упомянули его имя! — На этот раз Пол поднял глаза, и, когда я увидела отразившееся в них чувство вины, это меня так испугало, что у меня перехватило дыхание.
— Как это понимать? — в испуге спросила я. — В чем дело?
Он подыскивал слова. Раньше это было так же несвойственно ему, как и его пессимизм.
— Простите меня, — проговорил он наконец. — Я не хотел вас обидеть. Элан прекрасный мальчик, и я очень рад. Я… часто думал о нем за последние три года… и хотел его увидеть… Боюсь, я никогда не чувствовал себя достаточно свободно с маленькими детьми. Но вы не должны думать, что он мне безразличен, если я этого не демонстрирую.
Я расслабилась.
— Ну конечно же! Мне следовало понять, что вы не привыкли к маленьким детям. Я понимаю.
— Я чувствую себя лучше, общаясь с подростками. У меня четыре мальчика, которым я покровительствую… — Пока мы одевались, он рассказывал мне о мальчиках, которых собрал прошлым летом в своем доме в Бар Харборе, и о том, что намеревается в июле собрать их снова.

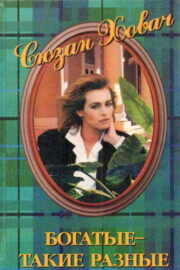
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.