Я с изумлением понимала, как сильно он нервничал, видимо думая, что я сдерживаю какое-то сатанинское недовольство. Было настолько странно думать, что Пол хоть на минуту мог почувствовать себя смущенным в присутствии женщины, что я громко рассмеялась. Просто удивительно, как далеко не смешные факты могут вызывать неудержимое веселье после бутылки шампанского.
— Вот что, Пол, — откровенно сказала я, — я была страшно обозлена на вас, но после того, как согласилась принять ваше предложение приехать в Нью-Йорк, решила оставить прошлое прошлому. Ну, а увидев вас снова, тут же вообще забыла о пережитом.
На его лице появилась тревожная улыбка.
— Так, значит, все прощено?
— Бога ради, Пол, что с вами? Не делайте вид, будто не знаете о том, как вы дьявольски привлекательны, я ненавижу эту напускную скромность.
— Вы не думаете, что я изменился?
— Да, в первую минуту, когда я вас увидела, я решила, что вам необходимо отдохнуть. Вы, очевидно, слишком перегружали себя работой?
— К сожалению, да. Это было глупо с моей стороны… Вы получили летом письмо от О'Рейли о том, что я был болен?
— Пол, я послала три письма, спрашивая о вашем здоровье.
Вид у Пола был смущенный.
— Простите меня. Моей личной перепиской в то время занимался уже Мейерс, а О'Рейли, видно, забыл сказать ему, чтобы ваши письма он не откладывал в сторону.
— Вы были серьезно больны? Что случилось?
— Ничего особенного, просто упадок сил вынудил меня пару месяцев отдохнуть, и теперь я себя чувствую много лучше. — Пол улыбнулся и поцеловал меня. — А как только увидел вас, — поддразнил он, — сразу отбросил цепи девятнадцатого века и почувствовал себя на двадцать лет моложе!
Я вернула Полу поцелуй.
— Саттон плэйс, сэр, — заметил шофер, когда машина простояла уже с минуту.
— Спасибо, Уилсон, — ответил ему Пол, с прежней легкостью выскочив из машины. — Питерсон, будет лучше, если вы пойдете с нами. В этом, может быть, не было бы необходимости, но мне ненавистна перспектива быть убитым каким-нибудь большевиком в тот самый момент, когда это было бы особенно неприятно мисс Слейд.
Мы вошли в плохо освещенный вестибюль высокого жилого дома, и меня ввели в лифт, на пульте которого было множество цифр, обозначавших этажи.
— У меня здесь пентхаус[18], — объяснил Пол, когда лифтер закрыл дверь кабины, — на двадцать восьмом этаже, и вид оттуда открывается поистине восхитительный.
— Правда? — отозвалась я, стараясь не думать об уходящих вниз двадцати восьми этажах.
Когда лифт остановился, я выскочила из него раньше, чем он должен был, как мне казалось, рухнуть в свою бездонную шахту.
Меня обогнал Питерсон, чтобы открыть дверь, и, когда он вошел в апартаменты и включил свет, переступила порог и я.
— Пол! — я посмотрела в окно. — Бог мой, какая панорама!
Питерсон закончил осмотр помещения и оставил нас в квартире одних.
Оглядевшись, я поняла, что дом находился в самой западной части города, окна гостиной выходили на юг, к Ист Ривер, и на запад, к Манхэттену. Небоскребы стояли лицом друг к другу, как армия монстров, изготовившихся к схватке, и их светившиеся окна и залитые светом прожекторов шпили придавали небу какое-то неземное сияние. Несмотря на вечерний мрак, я ясно видела сиявшую сталь и сверкавшее стекло этих чудес строительного искусства, и мне казалось, что передо мной лежала страна, лишь едва затронутая разочарованиями, которые принесла война Европе, мир, все еще цеплявшийся за иллюзии девятнадцатого столетия — что все технические достижения ведут к прогрессу, а прогресс ведет к совершенствованию человеческого рода. Впервые я поняла, почему Америка так неохотно вступила в войну, а после нее снова замкнулась в себе. Америка жила в другом мире, в мире сияющего оптимизма, безграничных достижений и неомраченных надежд. Мучительные испытания и терзания Европы могли казаться ей не только скучными, но и ненужными. Я подумала о богаче, не выходящем из своего дворца, потому что ему надоедает невзрачное зрелище бедняка, страдающего у его порога.
— Америка никогда не подвергалась ни вторжению, ни оккупации, — тихо проговорила я. — Она никогда не страдала так, как страдали европейские страны.
— Ни у одной страны нет прививки против несчастий, — заметил Пол, — и кроме несчастий от бомб и штыков существуют и другие беды. Подумайте о Римской Британии. Несчастья для нее начались не тогда, когда саксы решили, что она была достаточно веселым местом, куда стоит наведаться. Несчастья начались, когда что-то нарушилось в экономике и города стали неуправляемыми.
— Но что могло нарушиться в американской экономике? — пораженная спросила я.
— С нею уже давно не все в порядке.
— Но рынок акций! Мне кажется…
— Это лишь наш позолоченный фасад, — прервал меня Пол, — и теперь мало кто заглядывает за него. Но этот бум затрагивает всего лишь некоторые сферы рынка. В сельском хозяйстве спад. Правительство в основном бессильно, рост нестабилен… Вы помните Крэйкина у Теннисона?
— Монстр, о котором никто не знал? Который проснулся и вырос из глубин?
— Как приятно видеть, что ваши знания Теннисона расширились! — Он помолчал, вынимая из шкафчика бокалы. — Теннисоновский Крэйкин мирно спит на Уолл-стрите, — продолжал Пол. — Он — экономическая версия Франкенштейна, созданная инвестиционными банкирами для публики, влюбленной в колесо рулетки, и в один прекрасный день он проснется, изрыгая огонь во всех направлениях… О, я говорю совсем как Кассандра! Не хотите ли посмотреть на другую часть города? Окна спальни выходят на север и на восток.
Спальня выглядела так, словно ее обставил Казанова с помощью какого-нибудь арабского шейха. Скрытый свет освещал совершенно неуместную особенность комнаты, потолок восемнадцатого века, декорированный изумительными миниатюрами херувимов.
— Боже мой, Пол! — воскликнула я. — Это выглядит совсем как потолок Анжелики Кауфман!
— Это он и есть, — отвечал Пол, появившийся в дверном проеме с бокалами, полными бренди. — В 1919 году, как раз перед тем, как я уехал из Европы, продавался дом под названием Каллом Парк, и, когда выяснилось, что его никто не покупал, я договорился, чтобы этот потолок отправили на пароходе сюда, пока дом окончательно не развалился. А почему это вызывает ваш смех?
— Потому что это типично американский образ действий, а я никогда не считала вас типичным американцем!
— Я не разделяю вашего мнения. Потолок очень хороший. Я спас его. И не нахожу в этом ничего смешного, — коротко отрезал он и вышел.
У меня сердце упало от ужаса.
— Пол…
— Если он вам не нравится, поедемте куда-нибудь в другое место, — сказал он, быстро выпив свой бренди.
— Он мне нравится! Я смеялась от восхищения — от восхищения вашей американской изобретательностью!
— Нет, лучше поедемте в другое место. Здесь неприятная атмосфера. Я не должен был привозить вас сюда.
Я протестовала, но он настоял на своем, и я молча последовала за ним к лифту.
Мы ждали лифта в холле, и мне не приходили в голову никакие слова. Я слишком ясно ощущала его напряженность и со страхом думала о том, что наша встреча принимает нехороший оборот, вечер мог кончиться плохо и наша связь окончательно порвется, раньше чем удастся ее возобновить. Я делала отчаянные усилия, пытаясь догадаться, какие мысли одолевают Пола, но быстро поняла, что мне скорее удалось бы расшифровать строчку этрусских иероглифов.
Подошел лифт. Мне следовало подумать о решении раньше, чем он остановится на первом этаже, а Пол бормотал какие-то извинения за неудачный вечер. Двери лифта закрылись. Я огляделась, ища повода для вдохновения, и, когда мой взгляд остановился на нем, я увидела глубокие морщины у его рта и вспомнила, что он недавно болел.
Воспоминания вернулись, словно ударив между глаз. Я снова видела, как отец слишком быстро возвратился в комнату моей мачехи после подорвавшего его силы приступа подагры и злобно ворчал на следующее утро: «Черт побери, невеселое дело пятьдесят пять лет!» По меньшей мере, полчаса мне пришлось выслушивать скучную диссертацию по проблемам возвращения здоровья людям среднего возраста. Я все пыталась вспомнить, как отец занимался самолечением (его лечебные приемы становились с каждым днем все более странными), когда лифт остановился на первом этаже.
— Впрочем, — глухо проговорил Пол, — мы можем также вернуться и в Плазу.
Я почувствовала, как уходят мои воспоминания и ухватилась за них. Отец заперся со своей очередной любовницей на колокольне Мэллингхэмской церкви и занялся любовью под колоколами. Совершенно очевидно, что это лекарство было чрезвычайно оригинальным, если принять во внимание присутствовавший таким образом элемент духовности.
— Ах, Пол, — проговорила я, стараясь придать голосу оттенок разочарования, и в то же время пытаясь его успокоить. — Еще не… не… — Могла ли я сказать «еще не поздно»? Я смогла и сказала. Отчаяние подвигнуло меня на продолжительную тираду: — Не поедем пока в «Плаза»! — сказала я победным голосом. — В конце концов у нас будет совершенно достаточно времени для всех подобных вещей позднее, а теперь во всем Нью-Йорке есть только одно место, которое я действительно хотела бы посмотреть. Я знаю, это звучит абсурдно, но не можем ли мы поехать на Уолл-стрит и посмотреть ваш банк? Я столько лет ждала, когда увижу место, где вы делаете свои миллионы и управляете экономикой, и мне кажется, что теперь мое любопытство не выдержит и часа отсрочки. О, Пол, поедемте туда! Это же не невозможно, не так ли? Уверена, что в Нью-Йорке нет ничего невозможного!
Он повернул ко мне лицо. Я увидела в его глазах спокойствие. Он посмотрел на меня и как-то особенно улыбнулся.
— Я был бы последним человеком на свете, — смеясь заметил он, — если бы сказал, что для вас хоть что-то невозможно! — и обойдя автомобиль, в котором дремал шофер, а Питерсон курил сигарету, он объявил обоим, что они свободны на весь вечер.

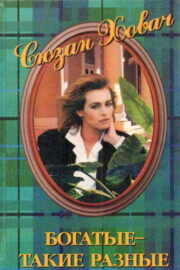
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.