Однако, поскольку я успешно добивалась своих целей, и Мэллингхэму ничто не угрожало, я могла проявить большую щепетильность в отношении денег Пола. Я нехотя вертела в руках серьги, а потом, сказав себе, что становлюсь слишком нервозной от страха оказаться «на содержании», положила их в свою шкатулку с драгоценностями и увела Элана и Мэри прогуляться по парку. И хотя я воспринимала гостеприимство Пола как ответ на месяцы, проведенные им в качестве моего гостя в Мэллингхэме, мне все же становилось не по себе от того, что он оплачивал этот номер-квартиру на Плаза. Когда же я стала избегать смотреть на орхидеи, я поняла, что мне необходимо выйти на свежий воздух.
— Какой милый старинный парк, — сказала я Мэри, когда мы остановились у небольшого озерца.
— О, мисс Дайана, здесь все так непривычно, все эти отвратительные черные камни… и никаких цветов… и даже травы почти не видно… мой отец заплакал бы от горя, увидев эту траву.
Нас охватила ностальгия. Девятнадцатилетняя Мэри была полной, разовощекой девушкой. Я очень боялась, как бы она не влюбилась в какого-нибудь американца, потому что миссис Окс никогда не простила бы мне, если бы у нее появился зять-иностранец.
Я не знала, сколько времени мы проживем в Нью-Йорке. Мы с Полом никогда не говорили о продолжительности моего визита, но я сказала своим друзьям, что мне понадобится два месяца, чтобы полностью ознакомиться с американской косметической промышленностью с целью открытия салона в Нью-Йорке. «В конце концов, — убедительно говорила я друзьям, не одобрявшим моего решения вернуться к Полу, — вполне можно соединить дела с развлечениями». Два месяца — это значит до середины июня — когда пора отправляться восвояси, поскольку в это время начинается сильная жара, а Пол уже настраивается на отдых в Бар Харборе. Этих двух месяцев будет достаточно для того, чтобы я могла понять, существует ли какая-нибудь перспектива продолжения нашей связи. И если ее не будет… Как ни ненавистна мне мысль о поражении, было бы самоубийством закрывать глаза на действительность. Но я была уверена, если бы какое-то будущее для нас существовало, я смогла бы увезти его с собой в Мэллингхэм. Все, что мне оставалось — это быть спокойной, независимой и благоразумной, следуя своему плану действий без малейших отклонений от принятой тактики.
К сожалению, невозможно было себе представить менее спокойную, менее независимую и благоразумную женщину, чем я, когда я готовилась к своей первой за три с половиной года ночи с Полом. Я то трепетала в предвкушении, то дрожала от страха, то бредила о лунном свете, о розах, то шептала «я люблю вас», а потом обливалась холодным потом от страха при мысли о сдерживаемой зевоте, о банальных словах и об ужасном эпилоге: «Я как-нибудь позвоню». В отчаянии подпиливая ногти, я говорила себе, что одинаково нереалистичны и романтический сон, и отвратительный кошмар. Пол никогда раньше не подавлял зевоты, занимаясь со мной любовью, но и ни разу не сказал «я люблю вас» — и было очень маловероятным, чтобы он отважился на это теперь. Наверное, следовало бы заставить друг друга рассмеяться, порвать пару простыней, а потом сказать, как нам недоставало друг друга.
И все же я не могла не задаваться вопросом, действительно ли ему меня не хватало. Я понимала, что после возвращения из Англии у него немедленно появился кто-то другой. Это единственное могло быть правдоподобным объяснением его долгого молчания и попытки положить конец нашим личным отношениям, но, хотя мысль об этом была неприятна, я с ней не расставалась. Очевидно, что теперь у него другой женщины не было, иначе он никогда не пригласил бы меня. В сотый раз я бесплодно пыталась понять его истинные чувства. Если бы Пол действительно сказал мне «я вас люблю», я, вероятнее всего, не поверила бы ему, и все же я знала, он любил меня в Мэллингхэме, и, хотя я могла допустить, что любовь эта угасла, я предпочитала думать: она не умерла, а просто спит.
Я знала, что грешно принимать желаемое за действительное, и надеялась избежать этого греха.
Мысль о грехе подбодрила меня, и через секунду я уже снова трепетала, но уже не от страха, а от вожделения. Было странно думать, что в викторианские времена вожделение считалось исключительно мужским пороком. Я раздумывала над судьбой призрачных героинь Теннисона, с их гипсовыми лбами, и задавалась вопросом — что они думали об обнаженном мужчине. Поблагодарив Бога за то, что меня не было на свете семьдесят лет назад, я некоторое время бредила наяву о себе с гипсовым лбом и о каком-то бестелесном мужском органе, а потом нехотя вырвалась из круга своих возбуждающих мыслей и стала одеваться к вечеру.
Благодаря изысканной кухне на «Беренгарии», я едва втиснулась в вечернее платье, гармонировавшее с моими серьгами, но когда есть желание, находится и способ. У платья были узкие бретельки, и оно свободно и прямо ниспадало от бюста до бедер расшитой бусинками зеленой трубой, а от бедер атлас падал складками, образуя оборку на уровне колен. К сожалению, бедра мои вносили дисгармонию в эффект, создававшийся трубой, которая вздувалась как раз там, где кончались бусинки, но я говорила себе: Пол никогда не обращал внимания на мужеподобных женщин, следовавших послевоенной моде, он будет лишь рад тому, что мои бедра будут подчеркнуты платьем. Протиснув руку в браслет, я схватила веер из страусовых перьев, сложила губы, наподобие Клары Боу, в пчелиное жало, и станцевала перед зеркалом небольшой чарльстон.
Когда приехал Пол, я опять стояла перед зеркалом, любуясь своими чулками телесного цвета, самого высшего качества.
— Бог мой! — проговорил Пол, — что это за паутинка на ваших ногах? И почему браслет выше локтя?
— О, я могу все снять.
— Прямо сразу?
— Но если вы считаете, что у меня ужасный вид…
— Дорогая моя, от вас невозможно оторвать глаз! Надеюсь, я не слишком стар, чтобы отвергать современную женскую моду. Питерсон, вы специалист по отталкивающему американскому слэнгу — можно назвать мисс Слейд джаз-беби?
Питерсон рассмеялся. Он не был безнадежно мрачным, какими обычно бывают телохранители, и меня совершенно не смущало его присутствие тем долгим летом 1922 года, когда мы были вместе с Полом.
— А что случилось с О'Рейли? — между прочим спросила я Пола, вспомнив о другом его служащем, сопровождавшем его при каждом визите в Мэллингхэм.
Мы пожелали Элану спокойной ночи и вышли из дома к «роллс-ройсу».
— Он получил повышение по службе, — ответил Пол и, не изменив ни одной нотки в голосе, добавил: — Он умер, — и принялся рассказывать мне о ресторане, в котором мы должны были обедать.
— Он на Парк авеню, — говорил Пол, — этот ресторан «Марджери». По-моему, он даже шикарнее своего парижского тезки. Посмотрим, как он вам понравится.
В тот момент я была бы в восторге даже от рабочего кафе, но «Марджери», без сомнения, отвечал самым изысканным эпикурейским вкусам. Внутренняя отделка была довольно строгой: обшитые серыми панелями стены в стиле Людовика Шестнадцатого — французские короли явно пользовались популярностью у нью-йоркских дизайнеров по интерьеру. Светло-зеленая мебель была обита розовой и цвета слоновой кости парчой, а свет лился между сверкавшими гранями хрустальных цепей и подвесок, напоминавшими мне каскады причудливых фонтанов. Кроме общего зала, здесь были и укромные уголки для обедов вдвоем. Наш был украшен розовыми и белыми гвоздиками, а под салфеткой угадывались контуры еще одной бутылки лучшего французского шампанского, полулежавшей в серебряном ведерке со льдом.
— А как насчет сухого закона? — не удержалась я от вопроса, когда из бутылки вылетела пробка. — Разве это не нарушение закона — так вот распивать шампанское?
— Добро пожаловать в Нью-Йорк Джимми Уокера, Дайана, где продается даже закон, если кто-нибудь может себе позволить его купить! Ну, а теперь, чего бы вы хотели откушать? Спесиалите де ля мезон — филе из морского языка…
Я тут же решила, что Древний Рим вовсе не исчез с лица земли, а просто превратился в Западный Гемпшир.
— Нет, по-моему, более точной параллелью была бы Англия восемнадцатого века, — заметил Пол, а когда стал обосновывать свои доводы философскими, историческими и литературными примерами, я почувствовала, как назревало во мне желание поспорить, но все кончилось тем, что у нас просто улучшилось настроение.
Прошло немного времени, как мы углубились в дискуссию о непристойности в литературе, но только после того, как я совершенно потеряла нить своих мастерски нанизанных аргументов, я поняла, что он все время пил воду, тогда как я выпила почти целую бутылку шампанского.
— Пол, злодей вы этакий, вы же меня напоили!
— Иначе я не смог бы надежно проверить, как вы провели последние три года!
— Вы отлично знаете, как я провела последние три года! Я вам постоянно писала. Вы помните это? Я никогда не позволяла себе оскорбительного молчания!
— Дорогая моя, американцы забыли о том, как пишут письма, как только стал общедоступным телефон, и теперь, когда очень просто позвонить из Нью-Йорка в Лондон, я обещаю вам исправиться. — Пол допил свой кофе и, когда отодвигал чашку, я с удивлением заметила, как дрожала его рука. — Может быть, пойдем?
— Обратно в отель? — смущенно проговорила я, пока он прятал от моих глаз руки под столом.
— Нет, здесь, поблизости, на берегу реки, у меня есть квартира — мы могли бы выпить немного бренди, и я показал бы вам местные достопримечательности.
— Это божественно! Мне было бы очень приятно! — отвечала я, озадаченная явным расхождением между его предложением и безошибочными признаками нараставшего напряжения.
— Дайана, — проговорил Пол, как только мы уселись в машину, — я действительно сожалею об этих письмах.
— О каких письмах?
— Которых я не читал. Вы сердитесь?

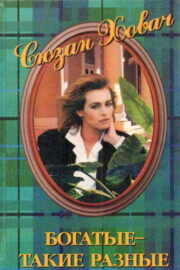
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.