— Дорогая, это уже решено, и я вдвое подняла цену на массаж с этим кремом! Седрик, вы сказали об этом людям Горринджа?
— Мисс Слейд…
— Иду, Мэйвис. — Я вернулась в кабинет и увидела письмо Пола, все еще лежавшее на письменном столе. В туалет хотелось как никогда. Я схватила телефонную трубку: — Да?
— Дайана? Это Джеффри. Послушайте, я неожиданно оказался в Лондоне. Может быть, пообедаем вместе?
— С радостью, Джеффри. Часов в восемь?
— Я заеду за вами.
— Буду ждать. Спасибо. Простите, я очень спешу…
Я схватила письмо Пола и устремилась в туалетную комнату. Там, в спокойном полумраке моей любимой кабины, мне наконец удалось не отрываясь снова перечитать письмо.
Выходя, я взглянула в зеркало над раковиной. Лицо мое было бледным от волнения, которое мне все еще хотелось считать гневом, хотя оно сильно смахивало на смесь радостного возбуждения с испугом.
«И снова в бурные волны, дорогие друзья!» — мысленно процитировала я, подумав о том, как не хочется к этому добавить: «Ave Caesar, te morituri salutant»[14]. Я не могла с точностью вспомнить ответ Тиберия Цезаря шедшим на смерть гладиаторам, но подумала, что это была какая-нибудь циничная реплика, вроде: «Может быть, и нет, если повезет», оскорбительная для гладиаторов. Их положение, несомненно, доставляло им некое болезненное удовольствие, подобное которому испытывала теперь я. Я рассмеялась, пытаясь убедить себя в том, что на душе у меня радостно. После трех лет бесчисленных холодных деловых писем и расчетливо выхолощенной личной переписки Пол милостиво предлагал мне еще один кусок легендарного яблока соблазна. Ладно, если он этого хочет, он получит это, но в один прекрасный день, злобно подумала я, в один прекрасный день господин Пол Корнелиус Ван Зэйл поймет, что эта сделка обойдется ему дороже, чем он рассчитывал.
Я любила его. До него я не любила ни одного мужчины, как не любила и после него. К декабрю 1925 года я всерьез боялась, что никогда больше не полюблю.
Я боялась очень многого и всегда поражалась тому, что меня порой считали слишком уверенной в себе. Разумеется, говоря это, мои знакомые не собирались сделать мне комплимент, но тем не менее иногда было очень выгодно казаться тигрицей, а не дрожащей медузой. Если люди считают тебя смелой, можно не только поверить им, хотя бы наполовину, но даже черпать иллюзорную храбрость в их заблуждении.
Список моих страхов простирался до самых дальних пределов моего разума. Там было все: и серьезные опасения, и мелкие страхи, реальные и мнимые, безграничные и необоснованные. Я тщательно изучала их бессонными ночами. И приходила в ужас от одиночества и отсутствия любви, хотя это в значительной степени облегчало рождение Элана. Я боялась смерти. Приходила в ужас при мысли о бедности. Боялась, что прогорит мое дело, и я буду вынуждена расстаться с Мэллингхэмом, а мысль об утрате Мэллингхэма была для меня самой мучительной из всех. Я не могла представить себе мир без моего дома, без того единственного места в этом враждебном мире, куда всегда можно убежать и почувствовать себя в безопасности. Мне казалось, что я потеряла бы равновесие без Мэллингхэма, и приходила в ужас при мысли о нестабильности, сопровождающейся демонами отчужденности и безумия. Самым ужасным из моих кошмаров были мысли о безнадежной нищете в психиатрической больнице и о том, что меня похоронят не рядом с мэллингхэмским домом, а в какой-нибудь жалкой могиле, где мне вечно не будет покоя.
Этот перечень моих неврозов с очевидностью говорил о том, что я должна была работать ради спасения Мэллингхэма. Будь я достаточно богата, чтобы вести праздную жизнь леди, мне пришлось бы потакать своим страхам, и я скоро стала бы подобна своему чудаку-отцу.
Ирония моего положения состояла в том, что я всегда старалась быть обыкновенной. Мне кажется, это обычное желание детей из семейств, отличающихся некоторой эксцентричностью. Разумеется, вынужденная укладывать отца в постель после его камерно-музыкальных оргий, я мечтала о том, чтобы вернуться к своим деду и бабке, в дом линкольнширского приходского священника, где когда-то давно прожила два тихих, четко регламентированных, восхитительных в своей обыденности года. После третьего развода отца я некоторое время клятвенно заверяла себя в том, что никогда не выйду замуж, в действительности же мечтала иметь мужа, детей и жить в респектабельном браке.
И только в Гэртоне, когда едва знакомый мне юноша презрительно обозвал меня «синим чулком», я с грустью поняла, что, наверное, была слишком хорошо воспитанной, чтобы мне можно было сделать предложение. Казалось, мужчины вовсе не думали об уме женщины, лишь бы она была красивой, а поскольку я была пухлой и вполне обыкновенной, у меня не было иного выхода, как распрощаться со своими мечтами о романтической белой свадьбе, о женихе — высоком темноволосом красавце-герое, и о неторопливом свадебном путешествии на греческие острова на борту собственной яхты. Погрузившись с головой в учебники, я действительно стала «синим чулком», как все уже давно решили, с настолько же ложной, насколько и отвратительной аристократической претензией на то, что я «выше» сибаритской жизни. Я действительно убедила себя в том, что счастлива в этой роли, когда умер отец, но в гуще последовавших суровых событий я обнаружила, что не могла больше отгораживаться от мужчин и блуждать в интеллектуальном тумане. Мне пришлось пасть на колени и пресмыкаться перед теми мужчинами, на расположение которых я могла бы рассчитывать.
Мне сказали, что придется продать Мэллингхэм, а когда я запротестовала, заявив, что буду работать как лошадь, чтобы выкупить и сохранить его, мне ответили: молодой девушке неприлично жить одной, без единого человека в огромном доме, как неприлично для девушки моего класса идти в какой бы то ни было бизнес, и уж совсем недопустимо для девушки с моим положением в жизни быть кем-то кроме жены и матери, или же, если мне повезет меньше, просто старой девы-учительницы в какой-нибудь школе для перезревших горничных.
Эти мужественные решения были объявлены мне в большой зале мэллингхэмского дома сразу после похорон отца. Там был отец Джеффри, Филип Херст, вместе со своим партнером, а также поверенные, представлявшие моих единокровных сестру и брата. У камина, скрестив руки, стоял священник с местным доктором, пользовавшим отца во время его последней болезни.
Когда они закончили, я поднялась на ноги. Впервые в жизни при встрече с противоположным полом мой гнев оказался сильнее страха.
— Вы, проклятые мужчины! — кричала я, глядя, как они передернулись от выбранной мной лексики. — Как вы смеете говорить со мной так, словно я душевнобольная, и нуждаюсь в надзирателе! Как смеете разговаривать со мной так, будто у меня нет ни гордости, ни чувства собственного достоинства! И как вы смеете говорить мне такие вещи, которых никогда не осмелились бы сказать никакому мужчине!
Они стояли, уставившись на меня с открытыми ртами. Я презирала их.
— Вы, слушайте меня! — яростно выкрикнула я. — Мой дом буду содержать я сама! Я буду делать деньги! А вас выставлю в самом дурацком свете, если мне не останется ничего другого.
Один из них расхохотался. Я это запомнила навсегда. Его смех придал мне смелости, и я продолжала:
— И не толкайте меня на то, чтобы я все потеряла! — кричала я. — Я не желаю ничего терять! В моем словаре вообще нет слов ни «терять», ни «проигрывать»! Я заинтересована только в выигрыше!
— Но, дорогая моя… — беспомощно всплеснул руками Филип Херст, и, так как я знала, что он один в этой комнате был озабочен моей судьбой, я не прервала его неловкую речь. — Вам понадобился бы миллионер, чтобы содержать эту громаду!
— Значит, я найду миллионера! — огрызнулась я и вышла.
Часом позднее я накручивала педали велосипеда, направляясь к ближайшему телефону. Позвонив своей подруге Хэрриет, которая вела рубрику «Люди недели» в «Иллюстрэйтед Ланден ньюз», я спросила, не было ли в те дни в Лондоне каких-нибудь иностранных миллионеров. Я подумала, что иностранец, менее знакомый с английской действительностью, чем любой местный миллионер, мог бы проявить больше склонности к моему эксцентричному честолюбию.
— …И хорошо бы такого, кому могло бы показаться приятным помочь девушке, оказавшейся в затруднительном положении, — заключила я свое обращение к Хэрриет.
— Да, есть один такой. Пол Ван Зэйл. Американский банкир.
— Хорошо. Он годится.
— Но, Дай, у него ужасная репутация!
— Тем лучше! — заметила я и принялась строить свои планы.
Поскольку к тому времени стало ясно, что у меня нет никакой надежды на обычную респектабельную жизнь, мне ничто не мешало надеяться на обычную респектабельную любовную связь с любым представителем противоположного пола. Я знала, что мне придется спать с Полом Ван Зэйлом, но ради Мэллингхэма я была готова пожертвовать своей девственностью. И вряд ли стоило бы тянуть с этим до брачной ночи, которой никогда не бывать. Кроме того, мне пришлось признаться себе в том, что к тому времени (мне было двадцать два года) меня уже мучило любопытство: действительно ли половой акт такая восхитительная вещь, как, по-видимому, все думают. Я к тому времени уже не была религиозной и решила не прислушиваться к угрызениям совести. И достаточно хорошо знала теорию Фрейда, чтобы сказать себе, что излишняя стыдливость вредит здоровью. И, разумеется, была достаточно доведена до отчаяния, чтобы улечься в постель с совершенно незнакомым человеком. Единственной моей заботой была мысль о том, окажется ли Пол Ван Зэйл достаточно доведенным до отчаяния, чтобы спать со мной, но я очень надеялась на это, вспоминая слова отца о мужчинах средних лет, всегда находящих привлекательными молодых девушек.
Чем больше я думала о Поле Ван Зэйле, тем более решительно была готова к тому, что возненавижу его. Я ехала к нему в офис в большой продуктовой корзине и думала: он мерзкий человек, который будет вынуждать меня сносить все это! Я никогда не видела его фотографий, но была уверена, что он жирный, плешивый коротышка. Одна мысль об его американском акценте вызывала у меня содрогание.

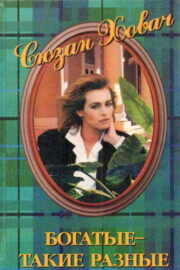
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.