Я спрашивала себя, думал ли он обо мне не только мимоходом в последние месяцы того лета на Норфолкском побережье, но сильно в этом сомневалась. Под влиянием очарования Европы все воспоминания об американской жизни оттеснялись у него на задний план, и он просыпался с мыслями о средневековом искусстве и архитектуре, о древних руинах и музеях, об исторических библиотеках и памятниках. Ни одна любовница не могла бы быть более требовательной, чем эта полностью окутывающая его шелковая сеть бесконечного прошлого Европы.
Он решал, что сказать, как нарушить молчание. Наконец я почувствовала — его рука властно скользнула в мою.
— Ну, вот, — проговорил он бодрым голосом, — я потерял голову и сердце, но слава Богу не инстинкт возвращения домой! Не могу передать вам, как хорошо чувствовать себя дома… Ах, я вижу, движение на Пятой авеню все такое же сумасшедшее, как и всегда! Это верно, что к Рождеству собираются установить светофоры? Это могло бы многое изменить, если бы хоть кто-нибудь имел о них хоть малейшее понятие… Много ли магазинов пооткрывалось за время моего отсутствия? Какие рестораны исчезли? «Тиффэйни» по-прежнему на месте… а вот и «Лорд энд Тэйлор…» — мы двигались от центра через Тридцатые к Сороковым улицам. — А вот Дельмонико на своих задних лапах! И «Шерри»… «Де Пинна»… «Сент Пэтрик»… и, как всегда, «Гоутик!»… «Плаза»… «Парк»…
Он смотрел на все это как на друзей, с которыми был в долгой разлуке; призвав всю свою храбрость, я взглянула Полу прямо в лицо и увидела, как искрились его глаза и какой лучистой была его улыбка.
— Я люблю все это! — со смехом воскликнул он, поворачиваясь ко мне, и я подумала: «Да, вы любите места, культуры, цивилизации, но не людей». Я никогда, ни разу не слышала от него слов «я люблю вас», обращенных ко мне или к кому-то другому.
Наши взгляды наконец встретились, и внезапно я увидела за избытком его впечатлений и чувств озабоченность и тревогу. Английского Пола с его давящим безразличием больше не было, и передо мной снова был американский Пол, так гордившийся своим браком, и так горячо желавший, чтобы между нами все было хорошо.
— Пол… — на глазах у меня выступили слезы.
— Ах, Сильвия, не грустите! — порывисто воскликнул он, и, когда он привлек мое лицо к своему, я снова была рабыней его переменчивых, как ртуть, настроений, покоренная его жизнелюбием и очарованием. — Если бы вы знали, как я рад своему решению возвратиться домой…
Он не закончил фразу, а я не дала ему это сделать. Он привлек меня к себе, я обвила его шею руками, и, когда он стал покрывать меня поцелуями, по моему лицу заструились слезы, смывавшие последние следы моей гордости.
Мы жили в пятидесятикомнатном доме, выходившем окнами в парк на Пятой авеню. Дом был построен в классическом стиле, с колоннами, портиками, с длинными симметричными окнами, он выглядел, разумеется, весьма элегантным, однако экономка не раз говорила мне о том, как трудно вести такой дом. Пол построил его сразу после нашей свадьбы, и, когда я между делом как-то пожалела о том, что сады при этих домах в лучших кварталах города всегда очень маленькие, он купил соседний дом, разрушил его и разбил там для меня сад. Он приказал устроить даже теннисный корт и бассейн. Я очень обрадовалась саду, но когда мы в первый раз вошли в дом, я была больше поглощена заботой о том, какие комнаты зарезервировать для детских.
Но те дни давно прошли.
В мои обязанности, как жены Пола, входил присмотр за всеми домашними делами, организация его приемов, представление его в различных благотворительных комитетах и ограждение его от всего того, что могло бы без необходимости отнимать у него время. Это ко многому обязывало, но я радовалась этому, и если бы была просто служащей Пола, то могла бы исполнять свои обязанности спокойно. Все дело было в том, что быть женой Пола была куда труднее, чем его служащей.
Блистательным достоинством Пола была его честность. Он жил не так, как другие, и его правила были мало похожи на общепринятые, но у него был собственный кодекс чести, которого он строжайшим образом придерживался. Прежде чем вступить либо в брак, либо просто в связь с женщиной, он точно объяснял, чего от нее ожидал и чего она могла ожидать от него, и если он когда-нибудь что-то ей обещал, то держал свое обещание. Он никогда никому не обещал верности, спокойной жизни или душевного покоя, и все же по-своему мог быть как верным, так и достойным доверия. Я знала, что, пока исполняю свои обязанности хорошо, он никогда не поменяет меня на какую-то другую. Я знала, что он искренне гордился мной и всегда хвалил меня своим друзьям. И знала также, что занимала особое место в его жизни. Однако знание это не устраняло моих трудностей, но облегчало их преодоление. Я признавала первенство его работы перед всем остальным и неизбежность того, что банк отнимал громадную часть его времени. Принимала и тот факт, что у человека, редко пьющего и мало курящего, неизбежным пороком является склонность к женщинам, и понимала при этом, что для Пола любая случайная связь имела не большее значение, чем трудная партия в теннис или скоростной заплыв в бассейне. Он жил под громадным давлением, и было жизненно важно, чтобы у него была возможность расслабляться любым угодным ему путем и когда бы то ни было. Но это приятие было нелегким, у меня было так много одиноких вечеров, но я любила Пола и понимала, что бесполезно пытаться его изменить. Мне приходилось принимать его таким, каким он был.
Когда-то давным-давно, когда мы только поженились, я надеялась, что смогу его изменить. Мне тогда было всего двадцать пять лет, и, хотя я уже побывала замужем, я была еще очень наивной. Я думала, что, если буду его достаточно любить, он никогда не взглянет ни на одну женщину. Даже позднее, когда мои иллюзии рассеялись, я все же думала, что могу все изменить простейшим способом.
Я никогда не забуду ужасного выражения его глаз, когда сказала ему, что забеременела.
— Но вы говорили мне, что вы не можете выносить ребенка! — в голосе его прозвучало обвинение, как будто я была виновата в его разочаровании, и когда, взглянув на выражение моего лица, он понял, насколько бесчувственной была его реакция, он быстро заговорил о своем ужасе перед деторождением. Его первая жена умерла от какого-то послеродового осложнения, и он себя ужасно ругал. Долгие месяцы его мучило чувство вины, и когда он наконец оправился от этой трагедии, то решил, что никогда в будущем не допустит беременности любимой женщины.
Только после моего очередного выкидыша Пол сказал мне, что не любит детей. Поверить в это было совершенно невозможно. Он боготворил свою дочь Викки, и не нужно было обращаться к современному психиатру, чтобы правильно понять, какую роль в его жизни играли его амбициозные протеже. Однако я догадалась, что по какой-то причине он боится другого ребенка, и твердо решила дознаться об этой причине.
Призвав на помощь всю свою смелость, я обратилась к свекрови, аристократической, образованной и волевой старой леди, которая каким-то чудом всегда оказывалась на моей стороне, и прямо спросила ее, известна ли ей причина боязни Пола.
— Я ничего не могу вам сказать, — отвечала она, без тени неприязни или особого удовольствия, совершенно нейтрально. — Вы должны спросить об этом Пола.
К тому времени сестра Пола, Шарлотта, уже умерла, но при очередной встрече с ее дочерью Милдред я продолжила свои расспросы.
— Дорогая, я же всего лишь племянница Пола! — отвечала Милдред. — Что я могу знать о подобных вещах?
Что-то натолкнуло меня на абсурдную мысль поговорить об этом с Элизабет Клейтон, женщиной, которая была любовницей Пола на протяжении более двадцати лет, но это, разумеется, было невозможно. Лишь после смерти дочери Пола Викки мы с Элизабет стали близкими друзьями.
Я очень любила Викки. Она сильно расходилась с Полом во взглядах, но все в ней мне напоминало его. У нее были те же жесты, тот же быстрый ум, то же чувство юмора, но там, где Пол был жестким, она была чуткой, великодушной и мягкой. В ней было все тепло Пола, но без стальной подкладки. Пол ужасно баловал ее, но это каким-то образом ее не портило. У нее хватало чувства юмора, чтобы видеть всю абсурдность его попыток возвести ее на пьедестал, на котором ему хотелось ее видеть, и врожденного здравого смысла, чтобы не думать о себе как о сказочной принцессе из волшебной сказки, которая может иметь все, что пожелает. Ее воспитала мать Пола, и это, несомненно, спасло ее от того, чтобы стать невыносимой. Старая миссис Ван Зэйл была из тех женщин, которые не допускают вздорности, и Викки была ярким примером чутко уравновешенного воспитания.
Я живо вспоминаю овладевшую мною панику, когда поняла, что кто-то должен сообщить Полу о ее смерти.
Об этой новости я узнала не от мужа Викки, а от позвонившего мне по телефону Стюарта, старшего сына Джея от первого брака, и, окончив разговор, тут же бросилась к матери Пола. Удар и боль сделали ее холодной. Когда я плакала в отчаянии от того, что не знала, как сказать обо всем Полу, она просто проговорила: «Это ваш долг» — и после этого мне не оставалось ничего другого, как оставить ее горевать одну. Я в слезах вышла из ее дома. Трагедия с Викки была выше моих сил, и в конце концов я пришла в такое отчаяние, что обратилась к единственному в Нью-Йорке человеку, способному мне помочь, к Элизабет Клейтон, к дому которой на Грэймерси Парк и отправилась.
— Я знаю, это стыдно, Элизабет, знаю, что проявляю слабость, но…
— Я скажу ему, — ответила Элизабет.
Я так и не узнала о том, что произошло тогда между ними, так как ни один из них никогда не рассказывал мне об этой встрече, но всегда помнила, как Элизабет пришла ко мне на помощь, а она всегда помнила, как я отдала ей последнюю дань, попросив ее быть рядом с Полом вместо меня. Этот случай стал основой какой-то странной связи между нами, и вскоре после того, как сам Пол сообщил мне, что эта связь окончена, моя естественная неприязнь к Элизабет рассеялась, и мы стали время от времени встречаться, чтобы вместе позавтракать. В то время меня беспокоило здоровье Пола, и было очень важно иметь кого-то, кому можно было доверить эту тревогу.

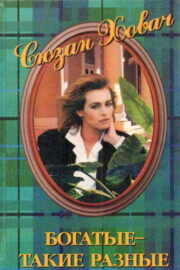
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.