Но теперь этой свободе наступал конец. Хэл Бичер был надзирателем, которого послали вернуть беглого преступника обратно в тюрьму.
— Ребята Джея жаждут вашей крови, Пол, — сказал Хэл, и, услышав эти слова, я понял, что не смогу закрыть глаза на положение на Уиллоу-стрит. Если бы я так поступил, это означало бы, что все мои былые страдания пропали даром. Это означало бы, что я продал свою дочь и убил ее мужа, ничего при этом не получив, кроме разорения и бесчестья.
Я должен был ехать. Ворота тюрьмы широко распахнулись передо мной, но я вошел в них сам, и сам выбросил ключ от них.
Я посмотрел на Хэла, на О'Рейли и внезапно увидел себя таким, каким должен был видеть меня мир в последние месяцы — человеком среднего возраста, до безумия потерявшим голову от девушки, годившейся ему в дочери, игнорирующим свои деловые обязанности, чтобы болтаться по каким-то сельским канавам на дешевой парусной лодке. Неудивительно, что Стюарт и Грэг Да Коста подумали, что я стал хлипким и уязвимым. Решимость моя укрепилась, воля напряглась, и все мои инстинкты, направленные на выживание, были приведены в боевую готовность.
— Немедленно едем в Нью-Йорк, — коротко бросил я О'Рейли и, перед тем как выйти из комнаты, с удовлетворением отметил, как у него отвисла челюсть.
В холле надо мной поплыл вверх опиравшийся на балки потолок. Мне пришлось остановиться. В доме стояла тишина, и наконец, не в силах вынести груз этого молчания, я взлетел по лестнице в ее комнату.
Она неподвижно сидела на краю кровати, и, взглянув на ее плечи, ссутулившиеся, словно в ожидании нападения, я подумал о том, что подсознательно понимал уже давно, — я принял ошибочное решение, оставшись у Дайаны. Если бы я уехал в конце июля, расставание было бы болезненным, но переносимым. Я вернулся бы в Нью-Йорк, нанял бы для нее менеджера и устроил бы все так, чтобы ей пришлось вплотную заняться своим бизнесом. Теперь же у нее ничего не было, и было трудно вообразить ее управляющейся с делами до рождения ребенка. Как я мог считать, что чувства выгорят сами собой, и я спокойно уеду? Наша связь не только не затухала, а разгоралась все сильнее, наши чувства превратились в устойчивую потребность, а боль разлуки несомненно должна была стать для нас адом. Мне было жалко себя, еще большую жалость я чувствовал к ней, и все это время проклинал себя за неправильное поведение с Дайаной Слейд с самого — такого радостного и необыкновенного — начала до вязкого, мрачного, удручающе обычного конца.
— Итак, вы уезжаете, не правда ли…
— Да, я должен уехать. Простите меня.
— Полно, вы же всегда говорили, что вам когда-то придется уехать. И как скоро это случится?
— Я уезжаю прямо сейчас, Дайана. Как только Доусон упакует мои вещи.
— О!..
Я сел рядом с ней. Мы оба молчали. После долгой паузы она заплакала.
Я принялся ее целовать. И неожиданно услышал собственный голос:
— Поедемте со мной в Америку.
— О, да! — отозвалась она, не подумав, и сразу же, испуганно: — О, нет… — Она окинула взглядом стены комнаты, и я как наяву увидел ее укрывшейся в этой надежной колыбели, какой был для нее Мэллингхэм. — Мне хотелось бы, — сбивчиво заговорила она, — но я не могу… не теперь… Не представляю, как я выдержала бы одиночество в каком-то чужом городе. Здесь я, по крайней мере, дома… здесь друзья… миссис Окс…
— Я понимаю!
— Но я могу приехать позднее! — порывисто проговорила она, — когда не буду беременна, ну да, конечно же! Смогу приехать в Америку с ребенком, чтобы повидаться с вами.
Я очень крепко прижал ее к своей груди, так, чтобы она не могла видеть моего лица, какие бы чувства оно ни отражало.
— Пол…
— Да?
— Если бы я приехала в Америку… когда приехала бы… я не могла бы делить вас с вашей женой. Это было бы против всех моих принципов. Но ведь это, наверное, пустяки, не так ли? Я имею в виду, что брак-то ваш по расчету… и если она только почетный секретарь и домоправительница… — Дайана умолкла.
— Уж и не знаю, — сказал я в смятении, почти не понимая, что говорю. — Сейчас вовсе не время обсуждать подробности моей супружеской жизни, — заметил я и снова стал целовать Дайану.
Когда в дверь постучал О'Рейли, вид у меня был совершенно непотребным. Я был полураздет, обессилен, эмоционально уничтожен и вряд ли смог бы пройти три ярда, не говоря уже о трех тысячах миль.
— Уходите! — крикнул я О'Рейли, совсем как маленький ребенок.
Он ушел, но я знал, что там, по другую сторону Атлантики, отделаться от братьев Да Коста будет гораздо труднее. Я потянулся за одеждой.
— Нам надо поговорить о практических вещах, — лениво проговорил я, взявшись за рубашку и не слишком отдавая себе отчет в смысле сказанного. — Когда будете писать мне на Уиллоу-стрит, пишите на конверте мои инициалы, и никаких слов вроде «лично и конфиденциально». Тогда письмо наверняка дойдет до меня. И не беспокойтесь о деньгах — я дам необходимые распоряжения Хэлу. А теперь по поводу Мэллингхэма…
Она резким движением села в постели и разразилась слезами.
— Не пытайтесь отдать его мне из чувства вины или жалости, Пол, — решительно прервала меня Дайана. — Иначе я буду чувствовать себя оплаченной любовницей. Вопрос о выкупе у вас Мэллингхэма будет для меня стимулом, побуждающим к действию. А сейчас избавьте меня от разговоров об этом.
— Прекрасно, но не потащу же я с собой в Америку всю эту кипу документов — от одного свидетельства о праве на недвижимость пароход пойдет ко дну. Я возьму с собой только бумагу о передаче прав, а все остальное можете сунуть себе под подушку. Вы действительно уверены в том, что не хотите передачи права собственности вам? Пройдет еще какое-то время, прежде чем у вас появятся деньги, и во всяком случае я сомневаюсь в том, что вы сможете работать до рождения ребенка.
— Да? Вы полагаете, что я буду целыми днями валяться в шезлонге! В самом деле, Пол, это звучит так по-викториански!
Не находя сил, чтобы продолжать одеваться, я отбросил одежду и бессильно опустился на кровать.
— О, Пол, не уезжайте… прошу вас… останьтесь здесь… не уезжайте никуда… — Вся ее твердость изменила ей, и лицо Дайаны снова залили слезы.
— О, Боже! — проговорил я. — Боже мой! Черт побери! — взорвался я, что было на меня совершенно не похоже, так как я всегда считал совершенно непозволительной даже самую невинную ругань в присутствии женщины.
— О, как я могла… прошу вас, пожалуйста, простите меня! — разрыдалась Дайана, принимая мою вспышку за раздражение. — Я была так полна решимости быть мужественной, веселой и не сентиментальной…
— Правда? Как досадно! Не думаю, чтобы я смог бы это вынести, — откровенно сказал я Дайане, и словно каким-то чудом наше отчаяние улетучилось, и мы одновременно рассмеялись.
Когда я покончил с одеванием, она проговорила, с сухими глазами, но довольно бессвязно:
— Что я могу сказать? Должно же быть что-то такое… что-то должно быть… не знаю, как сказать — что-то глубоко задевающее — не нахожу слов…
— Может быть «Ave atqvue vale»?12
Она пожала плечами:
— Стало быть, конец!
— Для Катулла, но не для нас! — Я склонился над кроватью для последнего поцелуя. — Берегите себя. Простите меня. Мы еще встретимся.
Последнее, что я помню: я, спотыкаясь, шел по коридору. На верхней площадке лестницы задержался и прислушался. Она не плакала, в воздухе висела отчаянная тишина, и я, нащупывая ногами ступеньки, спустился в холл.
Там меня давно ждали.
— Ну, поехали! — выдавил я с перехваченным дыханием, настолько несчастный, что едва мог говорить. — Какого дьявола мы медлим?
И предоставив всем с разинутыми ртами смотреть на развалины моей воспитанности, проследовал мимо них на улицу, к автомобилю.
Пароход отплыл из Саутгемптона на следующий день.
Заказав себе какие-то совершенно несъедобные закуски, я принялся пить шотландское виски. Я с отвращением прибегал к этому, но эффект от крепкого напитка казался мне более приемлемым, чем туман в голове от моего лекарства. Разумеется, мне непереносимо не хватало Дайаны, но ощущения мои были более сложными, нежели простое чувство утраты. Я был сбит с толку, словно погружен в вакуум, мое смятение все нарастало по мере удаления от английского берега, и я все больше убеждался, что допустил серьезнейшую ошибку за всю свою жизнь. Мне следовало остаться в Мэллингхэме. Я был счастлив, физически чувствовал себя прекрасно, и в голове у меня царил покой. Я принадлежал Европе, но зачем же тогда уезжать? Я чувствовал себя безнадежно отвыкшим от Америки, как если бы ее культура была недоступна моему пониманию, и, сравнивая Европу, с ее красотами, историей и с ее вечным очарованием, с дешевой роскошью и агрессивной энергичностью своей родной страны, я переставал понимать, почему плыл теперь на запад.
Пароход прибывал во второй половине дня десятого ноября, и я с каким-то фатальным, почти болезненным любопытством вышел на палубу, чтобы увидеть столкновение двух своих миров.
Когда я оказался наверху и стоял, вцепившись руками в перила, мы шли через узкие проливы. Был прекрасный, бодривший свежестью вечер, и вода во Внутренней бухте была цвета светло-голубого льда. Стоял штиль, и взору постепенно открывались все знаменитые здания — Уайтхолл, громада «Эдемс экспресс компани», двустворчатая масса «Эквитэбл Лайф», «Зингер-билдинг», как маяк, увенчанный куполом, и самое величественное из всех «Вулворт-билдинг», сиявший белизной и тонко одухотворенный своим сходством с современным собором. Я на секунду закрыл глаза, как будто не мог поверить, что ничего не изменилось, а когда открыл их снова, только тогда осознал всю необычную оригинальность представшего передо мной зрелища. Я увидел сотни лодок и тысячи шпилей, сиявшие башни моего города, злобно мерцавшие в свете солнца как зубы хищника. Я смотрел в пасть Нью-Йорка.

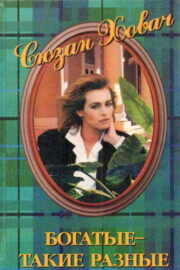
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.