Когда я уже совсем было потерял надежду найти кого-то подходящего, произошло чудо. Я отправился на очередной пикник на Остров. Беседуя с тремя пылкими моими поклонницами, я взглянул мимо них в конец лужайки и увидел женщину, которая стояла одна и смотрела на меня. Когда наши взгляды встретились, она вспыхнула и отвернулась.
Только женщина, обладавшая самыми безупречными достоинствами, могла повернуться спиной к Ван Зэйлу. Я устремился к ней, но она исчезла. Я стал настойчиво расспрашивать о ней, и наконец кто-то ответил: «О, вы, наверное, имеете в виду мисс Вудард. По-моему, она пошла в розарий». — «Она замужем?» — «По-моему, она вдова».
Даже Меркурий в крылатых сандалиях не мог бы помчаться с такой скоростью в розарий.
Она была само совершенство. Я был убежден, что обнаружу в ней хоть какой-нибудь недостаток, но их не было. Однако сама она так не считала, потому что врач сказал ей — она, вероятно, никогда не сможет доносить до срока ребенка и всегда будет терять его на четвертом месяце. После трех выкидышей ее предупредили, что детей у нее не будет. Она, как мне с горечью призналась, была уверена, что я хотел иметь ребенка. «Категорически нет», — ответил я.
Мы поженились. Ей нравилась моя семья. Все мои друзья считали, что мне очень повезло. Викки обещала поселиться с нами по возвращении из поездки в Европу. Мне с трудом верилось в обретенное счастье.
Спустя четыре года я понял, что во мне снова заговорила разрушительная сила моего честолюбия, и все опять пошло не так как надо. «Я должна что-то сделать для вас, Пол!» — в отчаянии сказала Сильвия после смерти Викки. «Вы можете отправиться со мной в Европу. — Мне хотелось бежать из Нью-Йорка. — Я решил стать представителем нашей фирмы в Лондоне и провести там пару лет».
Но Сильвия ненавидела Европу. Я не мог наслаждаться с ней, она вызывала во мне лишь тоску. Когда мы в 1919 году вернулись домой, сияющая оболочка нашего брака померкла, и, хотя мы, как оказалось, снова гармонично зажили в Нью-Йорке, мы больше никогда не были так близки, как раньше.
Тремя годами позже, когда я понял, что для моего здоровья мне необходимо жить в Европе, я не предложил Сильвии поехать со мной. «Я пробуду там не больше месяца, — сказал я, — и, поскольку вам Европа не нравится, у меня не будет претензий, если вы останетесь в Нью-Йорке».
Я прочел в ее глазах облегчение и удивился тому, что это меня задело. Потом понял: я ожидал, что она будет настаивать на поездке со мной, но этого не случилось, и я уехал один.
Вечером, перед отъездом, я сказал ей: «Если бы я только мог объяснить вам, как хороша Европа!» — но она ответила просто: «Дорогой мой, простите меня, я знаю, вам досадно, что я не в состоянии оценить Европу интеллектуально, как Элизабет, но я не могу притворяться интеллектуалкой, если я не являюсь ею».
Я поцеловал Сильвию. «Я никогда не хотел слишком умной жены», — проговорил я, горько подумав: чтобы оценить достоинства Европы, вовсе не обязательно быть большим интеллектуалом. В конечно счете, отгораживаясь от Европы, она отгородилась также и от меня.
Но я вовсе не огорчался этим. Я выбрал ее как компаньонку для своей жизни, а не для души, и что за беда в том, что она меня не поняла, если все три моих дома содержались в порядке, светские обязанности выполнялись наилучшим образом, а ее имя никогда не фигурировало в скандальной хронике. У меня была такая образцовая жена, о какой я всегда мечтал, и в общем нам было очень хорошо вдвоем. Желать большего было бы просто глупо, и что еще хуже — нереально. Говоря себе в сотый раз о том, какое счастье иметь такую жену, я нехотя вскрыл третье написанное ею на Керзон-стрит письмо, и оно унесло меня далеко от покоя Мэллингхэма в кишевшие потными людьми ущелья улиц Манхэттена.
У нее случился очередной выкидыш. Это меня так расстроило, что я не мог продолжать чтение письма и должен был попросить принести мне стакан бренди. Здоровье не позволяло мне пить много, но, к сожалению, всегда случались разные мелкие поводы для того, чтобы рискнуть здоровьем и сделать глоток-другой чего-нибудь крепкого.
В первый год нашей совместной жизни у Сильвии было два выкидыша, в дополнение к трем в ее браке с первым мужем. Я думал — мне удалось убедить ее, что я не хотел ребенка. После ряда лет общения с женщинами, желавшими преподнести мне сына-наследника, я наизусть выучил свою аргументацию в подтверждение моего отвращения к отцовству, но Сильвия с часто свойственной женщинам интуицией чувствовала, что все это было обманом. Несмотря на то, что я говорил по этому поводу, она по-прежнему была убеждена: я хотел ребенка так же, как и она. Теперь я не знал, чем могу утешить ее на этот раз.
И все же я мог бы кое-что сказать Сильвии. Я жил со страхом того, что каким-то чудом она выносит ребенка все девять месяцев. А это привело бы к страданиям, утрате иллюзий и трагедии. Это было бы концом нашего брака. Я мог бы вспомнить свою первую жену, Долли, кричавшую на меня, когда наш сын умер на третий день после рождения: «Ублюдок, вы никогда не говорили о такой отвратительной наследственности в вашей семье!», но потом она и сама умерла, и мне недолго пришлось терпеть ее отвращение.
Покончив с бренди, я сел и взялся за перо.
«Дорогая Сильвия, Вы не можете себе представить, как меня огорчило известие о Вашем коротком пребывании в больнице, и я очень сожалею, что Вас снова постигло разочарование. Еще больше я расстроен тем, что Вы никак не хотите поверить в искренность и правдивость моих слов об отношении к детям. Рискуя надоесть повторением, я позволяю себе еще раз напомнить Вам три вещи: я ненавижу династии; мне представляется жалким мужчина, думающий лишь о том, чтобы воспроизвести себя и стать таким образом бессмертным; и я не Генрих Восьмой».
Я оторвался от листа набрать чернил и, снова увидев письмо Сильвии, понял, что так его и не дочитал. Усевшись, я попытался успокоиться.
«Элизабет узнала, что я в больнице, — продолжала Сильвия, — и прислала мне цветы — так мило с ее стороны. Она очень беспокоилась о Брюсе. Он стал слишком красным, и она надеется на то, что вы сможете поговорить с ним по возвращении».
Имелся в виду не холерический темперамент сына Элизабет, а его политические взгляды. Брюс Клейтон, который был когда-то моим любимым протеже, стал профессором философии Колумбийского университета в Нью-Йорке и в последнее время не одобрял капиталистической практики Уолл-стрит.
«На днях Милдред говорила мне, что осенью собирается поехать на Восток с детьми, но Уэйд, как всегда, твердит: ему трудно оторваться от работы в больнице. Она говорит, что Эмилия и Корнелиус живут хорошо, и в самом деле здоровье Корнелиуса улучшилось».
Снова отложив в сторону письмо, я отметил в записной книжке: «Сделать что-нибудь для мальчика Милдред». Я всегда делал такие записи с тех пор, как мать однажды напомнила мне о том, что Корнелиус, как мой единственный наследник мужского пола, заслуживает с моей стороны большего, чем безразличие. По правде говоря, я думал о том, чтобы что-то сделать для Корнелиуса, так как считал его мать больше сестрой, чем племянницей, но я жил своими делами в Нью-Йорке, а Корнелиус — в штате Огайо, и расстояние отнюдь не способствовало осуществлению даже самых лучших намерений.
Сильвия отвечала на вопросы моего последнего письма и добавляла, что надеется на мое скорое возвращение домой.
«Мне вас очень не хватает. С любовью…»
Я смял письмо в руке, снова его разгладил, рассеянно провел рукой по волосам и в конце концов потянулся за новой бутылочкой чернил. Потом разорвал написанное и написал на чистом листе: «Дорогая Сильвия, я очень огорчен Вашим разочарованием и тем, что Вам пришлось побывать в больнице. Зная о том, как Вы всегда хотели ребенка, я глубоко опечален, что еще одна попытка окончилась неудачей. Я очень прошу Вас, не только ради Вас самой, но и ради меня, послушаться совета врача, данного задолго до нашей женитьбы, и не пытаться больше иметь детей. Уверяю Вас, я предпочел бы умереть, зная, что причинил Вам столько страданий или, может быть, даже не уберег Вас от безвременной смерти, но я оставляю эту болезненную тему, поскольку мои взгляды на этот счет Вам хорошо известны.
Мои дела на Милк-стрит идут удовлетворительно, и я получил телеграмму из Нью-Йорка о том, что Хэл Бичер согласился сменить меня в Лондоне. Это было мое предложение, и я рад, что оно наконец принято. У Хэла не слишком большой опыт работы в Европе, но он настоящий джентльмен, и я не сомневаюсь, что англичане примут его хорошо. Разумеется, он будет не хуже нашего предыдущего представителя в Лондоне.
Из-за неопытности Хэла мне придется пробыть здесь лишний месяц после его приезда, надо ввести его в курс всех дел, и я очень боюсь, что не смогу вернуться в Нью-Йорк ко дню нашей годовщины, однако, судя по тому, как идут дела, я наверняка буду дома в конце июля.
Послевоенный Лондон по-прежнему меня угнетает, а отвращение мое к послевоенной женской моде дошло до предела. Смотрите у меня, если Вы когда-нибудь коротко подстрижетесь, я тут же с Вами разведусь! К счастью, мне удалось на этот уик-энд уехать из Лондона, и я провел три приятных дня в Норфолке, но не в той его части, где живут Везертоны, а севернее, на побережье близ Ярмута. Там очень красиво и тихо.
Если муж Милдред не сможет освободиться, чтобы осенью поехать на Восток, она может отправиться туда и без него. Он скучный человек, и я не могу понять, почему Милдред вышла за него замуж. Я, как и раньше, считаю, что тот крепкий мелкий фермер, за которого она вышла замуж в первый раз, был для нее более подходящим. Хорошо, что здоровье Корнелиуса улучшается. Я должен что-то сделать для этого мальчика, но что можно сделать для тихого четырнадцатилетнего подростка, которого, судя по его виду, легко сдует самый слабый порыв ветра! Мой отец, несомненно, сунул бы ему в руки ракетку и прогнал его на теннисный корт, что, я, может быть, и сделаю. Как повторяется история!

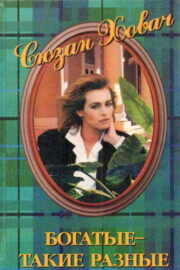
"Богатые — такие разные" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные" друзьям в соцсетях.