— Вот именно! — кричал я, не в силах слушать ее необычайный монолог ни секунды дольше. — У тебя нет никакой карьеры! Ты просто настоящая женщина, не из тех, что рядятся в мужчину!
— Корнелиус, ради Бога, о чем ты говоришь? — воскликнула Эмили, которую мои слова так задели, что она забыла про свои слезы. — У меня, разумеется, есть карьера! Моя карьера — воспитание детей достойными людьми, и я хорошо понимаю, что не все женщины наделены этим инстинктом и стремлением. Не думаешь же ты, что все мужчины должны быть банкирами? Женщины бывают разные, Корнелиус, и пи у одной нет монопольного нрава на женственность!
— Гм, Гм… Разумеется, Эмили, я лишь хочу сказать, что мне тот тин женщин, к которому принадлежишь ты, нравится больше всего. Разве у меня не может быть личных предпочтений?
— Предпочтений — да. Предубеждений — нет, — отрезала Эмили, с каждой минутой все сильнее напоминая мне мать.
Она была готова наговорить еще больше, но нас прервали. Через открытую дверь из сада вбежал маленький Тони Салливэн, плюхнулся рядом с Эмили на диван и устало привалился к ней.
— Эмили, мне что-то нездоровится.
— Правда? Гм… у тебя небольшой жар. Давай-ка смерим температуру. Извини, Корнелиус.
Она вышла из комнаты. Мы с Тони смотрели друг на друга, и кончилось тем, что я подсел к нему ближе.
— Я видел, ты только что играл в бейсбол. Это твоя любимая игра?
— Да.
— Я болею за «Красных из Цинциннати». А ты, наверное, за «Гигантов» или же за «Янки» из Американской лиги?
— Нет, за «Доджеров».
Мы поговорили о перспективах «Доджеров» в предстоявшем сезоне. Он спросил меня, видел ли я игру Бэйба Руса, и мы уже оживленно беседовали, когда вернулась с термометром Эмили.
— Давай, Тони. Корнелиус, налей себе еще чашку чая.
У Тони Салливэна был сто один градус по Фаренгейту. Много времени спустя я вспоминал, как он сидел на диване с термометром, глядя на меня голубыми глазами Стива.
— Тебе лучше лечь в постель! — сказала заволновавшаяся Эмили, встряхивая термометр. — Еще раз извини, Корнелиус.
— О, разумеется.
Я попрощался с Тони и пожелал ему не болеть.
Когда вновь появилась Эмили, мне уже было пора возвращаться к Алисии, и мы больше не касались темы Дайаны Слейд. Эмили сказала, что ей стало легче, когда она поделилась со мной своими худшими опасениями, а я посоветовал ей дать ясно понять Стиву, что она не одобряет его ностальгической переписки с бывшей любовницей.
— Обмен фотографиями и визитными карточками на Рождество не больше, чем дань приличию, — строго сказал я. — Однако всякий выход за эти рамки означает нарушение нравственных границ. Всему должны быть границы, Эмили, запомни это.
В тот вечер я два часа проговорил с Сэмом по телефону. Если тревога Эмили смягчилась, то моя разрасталась со скоростью размножения бактерий при жаркой погоде. Сэм сказал мне, что я становлюсь невропатом и должен серьезно заняться собой.
— Нэйл, она всего лишь девка с тремя детьми, которой не хочется выпускать из рук своего бывшего любовника! Что за проблема?
— Она хочет вернуть его к себе.
— Вздор! Зная ее, можно не сомневаться, что она заарканила уже, по меньшей мере, троих любовников и теперь ищет четвертого!
— Да, думаю, что ты прав, — без большой уверенности проговорил я и пустился в тревожные размышления об Эмили. Обычно я встречался с нею каждую неделю, а кроме того, регулярно звонил ей по телефону. Однако на следующий день мы с Алисией уехали в давно откладывавшееся свадебное путешествие, и, как только отплыли от берегов Флориды, я забыл обо всем, что осталось в Нью-Йорке. Забыл даже о Дайане Слейд. Во время круиза по Вест-Индии мы наслаждались солнцем, бирюзовым морем, серебристым песком и видом берегов, окаймленных пальмами. Наши ночи были не менее экзотическими. У меня сохранились идиллические воспоминания об уединенных бухтах и мерцающей холодности песка, пока его не заливал теплый океан лунного света. Помню накрывавшие нас волны прилива, когда мы занимались любовью у самой кромки воды. Помню и душную тесноту нашей каюты, залитой лунным светом, Алисию с ее серо-зелеными глазами, уже не такими холодными, как какое-нибудь северное море, а сияющими, как искрящиеся цветные воды Карибского моря, ее любовную пылкость, сравнимую разве с каким-нибудь гваделупским вулканом.
Я с ненавистью думал о возвращении во Флориду и о Нью-Йорке, ожидавшем меня на севере. Ненависть эта не проходила даже тогда, когда восстановление здоровья Алисии подтвердилось обычным ежемесячным недомоганием. А я подумал, что мы могли бы вынести из такого восхитительного свадебного путешествия гораздо больше, чем просто воспоминания.
— Но будут же и другие свадебные путешествия! — заметила Алисия, и мы решили зачать своего первого ребенка в феврале следующего года, во время второго круиза по Карибскому морю.
Но я заболел, и мне не оставалось ничего другого, как вздыхать, воображая себя снова на борту своей яхты.
Через двадцать дней после моей встречи с Тони Салливэном, почувствовав первые боли, я и не вспомнил о нем. То был мой первый день в банке после возвращения из круиза, и у меня было так много всяких дел, что я даже не нашел времени позвонить Эмили, чтобы осведомиться о ее самочувствии. Я был так занят, что решил не тратить время на то, чтобы болеть, и оставил без внимания первые симптомы.
Боль разливалась от спины к шее и голове. На другой день, после полудня, я едва не потерял сознание за своим письменным столом и, нехотя подчинившись неизбежности, отправился домой и улегся в постель.
Температура у меня поднялась до ста трех градусов. Алисия вызвала врача, и старый Уилкинз полчаса выслушивал мою грудь, пытаясь обнаружить хоть какие-то нарушения.
К тому времени я уже был убежден, что у меня полиомиелит и что я уже никогда не смогу ходить. Правда, был еще вариант воспаления мозга, и я представил себе, как проведу остаток жизни, существуя как растение. Увидев, что Уилкинз скорее озадачен, чем встревожен, моими симптомами, я вышел из себя. Он был высоким, респектабельным на вид мужчиной, с невозмутимыми манерами больничной сиделки. Во время моих постоянных зимних бронхитов он сохранял эту невозмутимость, несмотря ни на какие мои капризы, и я быстро понял, что эта новая болезнь вряд ли могла изменить наши отношения.
— Мне предстоит болеть долгие недели? — спросил я.
— О, я не хотел бы так думать, господин Ван Зэйл. В какой части головы вы чувствуете боль?
— Всюду. Больше всего справа. Это что-то вроде удара? Кровоизлияние в мозг?
— Сомневаюсь, господин Ван Зэйл, поскольку у вас не нарушены никакие функции. Шея у вас немеет?
— Да, и от этого мне тоже больно.
Он начал ощупывать мою голову за ушами и потрогал снизу нижнюю челюсть.
— Ой! — отпрянул я от него, приложив руку к шее, а когда мои пальцы коснулись шишки за ухом, я похолодел. Я где-то читал, что одна из самых ужасных болезней может начинаться с образования как раз таких опухолей в голове и на шее.
— Это рак? — в ужасе спросил я.
— Нет, господин Ван Зэйл. Откройте, пожалуйста, рот. Шире. Еще шире… А! Я так и думал.
Я вскрикнул от боли. Что-то случилось с моими слюнными железами. Я коснулся их языком и стал требовать, чтобы доктор сказал мне напрямую, сколько мне осталось жить.
— Вероятно, еще лет пятьдесят, — учтиво ответил доктор Уилкинз, складывая стетоскоп и извлекая из кармана книжку рецептов. — У вас эпидемический паротит, господин Ван Зэйл. Я выпишу вам болеутоляющее.
— Паротит! — я был шокирован. Но ведь это же детская болезнь!
— Да, и она может очень тяжело протекать у взрослых. Вы должны оставаться в постели не меньше недели, и ни в коем случае не вставать, даже если спадет жар.
— Но я же должен работать! Мне нужно быть в банке! Наверняка, если спадет жар…
— Господин Ван Зэйл, — с обаятельной улыбкой проговорил доктор Уилкинз, — вы что, хотите нагулять себе энцефалит? Разумеется, осложнения на мозг при паротите всегда обратимы, но, уверяю вас, это в высшей степени неприятное осложнение.
Я упал на свои подушки.
К сожалению, мои испытания только начинались. Жар не спадал, и самочувствие мое ухудшалось. Правая сторона лица опухла, и я стал казаться цирковым уродом. Кожа на нижней челюсти отвисла и болталась. Я почти не мог открывать рот и есть твердую пищу был не в состоянии. Моим самым большим достижением было всасывание жидкости через соломинку. Мучаясь, думал о том, как хорошо, что затронута только одна сторона лица, пока не обнаружил набухлость за другим ухом, и понял, что левая сторона обречена тоже.
Я долго отказывался пускать к себе кого бы то ни было, кроме своего слуги, но, в конце концов, ко мне прорвалась Алисия.
— Корнелиус! — пришла она в ужас.
Я попытался открыть рот. Гланды мои засвистели. Морщась, я молил Бога, чтобы боль отпустила, и прошло несколько секунд, прежде чем я дотянулся до блокнота и карандаша. Ведь говорить я совершенно не мог.
— Не знаю, должна ли я тебе это сказать, — начала Алисия, но я говорила с Эмили. Она думает, что ты, вероятно, заразился от Тони. Надеюсь, ты простишь ему это.
«Я сдеру с себя кожу, лишь бы он был жив!» — написал я в ответ, но не мог, ни засмеяться, ни улыбнуться. Я слишком страдал.
Скоро припухлость с правой стороны опала, и я с облегчением подумал, что дело идет к выздоровлению, но неожиданно проснулся среди ночи от жгучей боли в паху.
Никогда раньше я не испытывал большего ужаса. Старого Уилкинза вытащили из постели и привезли на машине ко мне. Одно из величайших благ, даруемых богатством, состоит в том, что в любую минуту доктор всегда в вашем распоряжении.
— Я становлюсь импотентом, — потея, заявил я, — не так ли, доктор?

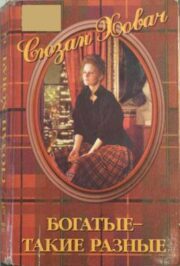
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.