Естественно, я пытался заниматься с Алисией любовью. Пытался несколько раз, но между нами каждый раз был ребенок. Я ощущал его. Он еле заметно шевелился. Он вызывал во мне чувство вины. Это была вина юноши, попавшего с хорошими намерениями в христианский дом. Все мои храбрые слова о том, что я был человеком двадцатого века, больше ничего не стоили, и я трепетал при одной мысли о десяти заповедях. Я не мог серьезно поверить, что Бога хоть как-то волнует то, с кем я сплю, но детская вера часто коренится слишком глубоко, чтобы ее можно было выкорчевать с помощью логики, и, после третьей неудачной попытки овладеть Алисией, я сказал:
— Мне очень жаль, но я так не могу. Когда он родится, все будет в порядке, но, пока он здесь, в постели, с нами, это невозможно. Я очень, очень сожалею. Прошу тебя, постарайся не очень сердиться на меня.
Она не ответила, но, лежа в темноте, я чувствовал, что у нее в голове проносятся мысли, в которых не было никакого упрека мне. Ничто не нарушало установившуюся тишину, и между нами росло напряжение, пока сам воздух не стал казаться наполненным нашим неверием в свои силы и пока она, потеревшись об меня, не положила руки не средоточие моей плоти.
— Ты не должна этого делать, — спустя несколько секунд машинально проговорил я.
Я не представлял себе, чтобы хорошо воспитанные молодые девушки знали о подобных вещах. Я бы не удивился этому знанию у Вивьен, но мне была отвратительна мысль об Алисии, ведущей себя так, как в моем представлении могли бы вести себя более зрелые, менее связанные принципами женщины.
Алисия не обратила внимания на мой протест.
— Алисия…
— Ты тупой педант, не будь же таким дьявольски провинциальным! — накричала она на меня, и я оцепенел от стыда.
Позднее, когда она добилась результата, а мне удалось перевести дыхание, я робко проговорил:
— Можно?.. Она ответила:
— Ну да же, ради Бога, скорее, пока у меня все не прошло впустую.
Позднее, обняв ее, я щекой почувствовал ее слезы.
— Алисия, дорогая…
— Нет, нет, все в порядке, я счастлива. Я люблю тебя. Прости, я так кричала на тебя… — Она прильнула ко мне. — Я так хочу тебя…
— У меня ужасное чувство, что я… я…
— О небо! Не все ли равно, как это делать?
Но мне было не все равно. Я от всего сердца предпочитал самый обычный способ любви, и, когда прошли недели, и мы по-прежнему продолжали заниматься тем, что я мог бы назвать, по меньшей мере, весьма необычным способом сексуальной жизни, я все с большим нетерпением грезил о том времени, когда мы поженимся, когда Алисия уже не будет беременна ребенком другого мужчины, когда мы будем ложиться в постель без ощущения вины и целиком отдаваться обычному чистому половому сношению, как любая другая пара порядочных супругов.
К сожалению, женитьба начинала казаться бесконечно далекой.
Фоксуорс не мог примириться с тем, что Алисия никогда к нему не вернется, и просто отказывался заводить речь о разводе. Это означало, что вся его энергия сосредоточивалась на проблеме опекунства, и в борьбе за Себастьяна он не отступал ни на шаг. Алисия была плохой матерью, утверждали его адвокаты, и за их спиной стояло мощное общественное мнение. Ни один судья, обладавший хоть какой-то совестью, не мог позволить, чтоб ребенок остался с ушедшей от мужа матерью и с ее беспринципным любовником. Себастьян с няней должны были немедленно отправиться в Олбани.
Мы с Алисией пускали в ход все доводы против Фоксуорса, но я понял, что надежды на то, что мы выиграем дело, не было. Кроме того, у меня не проходила тревога, я боялся, что Алисия превратится в истеричку, но, когда прозвучало неизбежное решение судьи, она приняла его спокойно, и я понял, что она на какое-то время примирилась со своей утратой. Алисия была слишком дальновидной, чтобы допустить самообман.
Когда пришло время попрощаться с сыном, она спокойно поцеловала его, сказала, что они скоро увидятся, и попросила его быть хорошим мальчиком. Потом в последний раз крепко обняла сына и ушла. Я подошел к ней, но она лишь сказала:
— Теперь мне нужно побыть одной, — и заперлась в своей комнате.
Она оставалась там двое суток, ни разу не позвав меня к себе. У ее двери регулярно оставляли подносы с едой, по большую часть еды уносили нетронутой.
Я чувствовал себя больным от постоянной тревоги. Я понимал, что она заставляла себя пережить тот факт, что потеряла ребенка из-за меня, и боялась, что не сможет вынести этого лишения. Я чувствовал себя виноватым, считал себя источником ее страданий, моя вина усугублялась тем, что я не проявлял должного внимания к ребенку и втайне радовался, что мне не придется быть в активной роли отчима. Он был темноволосым и темноглазым, как Ралф Фоксуорс, и я не видел в нем ни одной материнской черты.
После двухдневного добровольного заточения Алисии я решил, что она меня оставит, и мое отчаяние было таким безутешным, что я с трудом заставил себя уйти из банка домой. Но, войдя в гостиную, я увидел, что меня ожидал сюрприз. Меня встретила Алисия. На столе стояли два стакана, один с томатным соком, другой с молоком. На Алисии было новое платье, волосы были уложены по-новому, а на ее пальце сверкало обручальное кольцо с бриллиантом, купленное ей мною у «Картье».
Прошло не меньше пяти минут, прежде чем каждый из нас смог произнести хоть несколько бессвязных фраз. Мы просто сидели, взявшись за руки, но наконец, она сказала:
— Ты был очень, очень добр и терпелив, и проявил такое понимание… Я этого никогда не забуду, никогда. Мне очень жаль, что все было так трудно. — Я поцеловал Алисию и что-то невнятно пробормотал. — Корнелиус, я приняла решение. — Я подумал, что сейчас она объявит мне о своем возвращении к Фоксуорсу. — Не будь таким неразумным, дорогой, — сказала она, увидев мое окаменевшее лицо. — Между нами ничего произойти не может, ты должен это знать твердо. Нет, я просто решила, что второй раз этого испытания не выдержу. Я знаю, что могу оставить ребенка у себя на время, пока буду кормить грудью, но не хочу этого. Я не вынесла бы расставания с ним, когда ему исполнится шесть месяцев и он станет уже маленькой личностью. Это кончилось бы тем, что на меня надели бы смирительную рубашку в Белвью.
— Может быть, мы смогли бы договориться с Ралфом о более длительном сроке.
— Никогда. Он хочет, чтобы ребенок был с ним, и добьется этого. Это будет его расплата со мной за то, что я так вызывающе его оставила на глазах всей публики. — Она молча поднесла дрожавшей рукой спичку к сигарете и добавила холодным голосом, выдававшим ее тревогу: — Я не хочу видеть его, когда он родится. Пусть меня считают матерью, отказавшейся от ребенка. Это для меня единственная возможность.
— Позволь мне повидаться с Ралфом. Я уверен…
— Ты ничего не можешь сделать, Корнелиус. Я думала об этом сорок восемь часов, перебрала все варианты. Мне двадцать лет, я совершила ужаснейшую ошибку в своей личной жизни, и мне осталась одна надежда устоять и принять решения, которые повредят как можно меньше каждому, кого это касается. Моя главная забота не о себе, а о тебе. Я не хочу, чтобы ты оказался погребенным под развалинами моего первого брака. Не хочу, чтобы у тебя случился нервный срыв. Не хочу, чтобы ты втянулся в бесконечные судебные разбирательства с Ралфом. Я уже достаточно навредила твоей карьере, а ты ни разу не упрекнул меня ни единым словом. Ты заслуживаешь большего, чем бесконечные сцены и постоянные тревоги. Я потеряла Себастьяна. Это ужасно, но я должна это принять. Мне предстоит потерять и второго ребенка. Это не менее ужасно, но я должна принять и это. Но я выиграла тебя, а ты для меня самый важный человек на свете, и жить без тебя я не могу. Я представляю наше будущее и знаю, что все будет хорошо, Корнелиус, когда мы поженимся и когда у нас будут собственные дети.
Наши стаканы стояли на столе нетронутыми. Зашел слуга, сказавший, что меня просят к телефону, и тут же вышел.
Позднее, когда я принял душ и Алисия смотрела, как я одевался к обеду, мы занялись планами будущей семейной жизни.
— Я хочу, по меньшей мере, семерых детей, — сказала Алисия. — Мне нравится быть беременной и рожать. Это дает мне ощущение могущества. Порой мне жаль мужчин, которым не суждено этого испытать никогда.
Я улыбнулся ей в зеркало, перед которым завязывал галстук.
— Нам предстоит основать династию! — широко улыбаясь, проговорил я. — Не меньше пяти сыновей…
— Шесть, — сказала она. — На одного больше, чем у Рокфеллеров.
По ее бледной коже растеклась легкая краска, а круглые темные глаза засияли. Я понимал, что мысли о наших будущих детях помогали ей справиться с ее утратами, и поддержал ее династические мечтания. Мы дали имена всем шестерым сыновьям и даже пофантазировали насчет их будущей карьеры.
— Я люблю тебя, — крепко обнимая меня, сказала Алисия, когда мы решили, что Корнелиус Младший создаст Фонд изящных искусств, а Пол возглавит банк. — Только бы осуществление наших мечтаний не отодвинулось надолго! — задумчиво проговорила она.
— Я постараюсь его приблизить.
— Но у меня нет юридических оснований для развода с Ралфом! Как ты заставишь его развестись?
— Успокойся, — сказал я. — Я попробую с ним договориться.
Поскольку он женился на деньгах, я подумал, что за деньги он пойдет и на развод.
И не ошибся.
Развод стоил мне миллион долларов. Алисии я об этом ничего не сказал. И не потому, что мне было стыдно за себя, а потому, что мне было стыдно за него, продавшего ее таким образом. Я решил сделать все, чтобы его политическая карьера в Вашингтоне никогда не состоялась. Слишком ничтожным он был человеком.
— Я дам вам еще миллион за Себастьяна и за новорожденного ребенка, — сказал я Ралфу, но он, к моему удивлению, отверг это предложение.

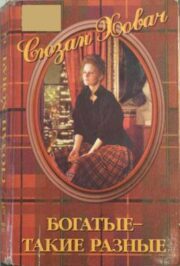
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.