— Вы расположились в этом углу в стремлении уединиться? — спросил я, рискуя показаться слишком навязчивым.
— Я нет, а вот вы, кажется, да. Я наблюдала за вами в окно.
Взглянув в окно, я увидел, что свет падал на стекло под таким углом, что оно превращалось в зеркало.
— А, так вы, значит, шпионка! — заметил я, усаживаясь рядом с ней в кресло.
— Нет, я всего лишь наблюдала за этими девушками, раздумывая над тем, компенсируется ли как-то бремя брака.
— Кто из этих мужчин ваш муж?
— Его здесь нет. Он, как обычно, задерживается в Олбани.
— Он правительственный чиновник?
— Член сената штата. Попытается попасть в Вашингтон в результате предстоящих выборов. А поскольку он пользуется неограниченным доступом к моим деньгам, по-видимому, это ему удастся.
Она со скучающим видом отпила апельсинового сока.
— Вы давно замужем? — нерешительно спросил я.
— Три года.
— Но три года назад вы, должно быть, были в том возрасте, который требует согласия родителей на брак!
— Мне было семнадцать. — Она допила апельсиновый сок и, открыв ридикюль, достала сигарету. — Вопрос стоял так: либо брак, либо самоубийство, — продолжала она, — но покончить с собой у меня не хватило решимости. У вас есть спички? — Я несколько секунд ощупывал свои карманы, прежде чем вспомнил, что бросил курить. В конце концов, я обнаружил спички на каминной доске. Закурив, она спросила: — А вы женаты, да? Ваша жена здесь?
— Мы расстались.
— Ах, да, теперь я вспоминаю. Простите. Я никогда не прислушиваюсь к сплетням. Откуда вы приехали в Нью-Йорк? Очевидно, вы здесь недавно, иначе я не могла бы не встретиться с вами перед нашим отъездом в Олбани. Мой отец Дин Блэйз, партнер банка «Блэйз, Бэйли, Ладлоу энд Аждамс», — объяснила она с некоторым опозданием, — постоянно играл в теннис с Полом Ван Зэйлом. Как стараются держаться вместе все эти банки-янки!
Я подивился тому, как тесен мир, и спросил ее, всегда ли она жила в Нью-Йорке.
— Разумеется. А где же еще можно жить?
— О, есть еще и Бостон, и Филадельфия…
Она ответила классически, как истая жительница Нью-Йорка. Проигнорировав полностью Бостон, просто с удивлением протянула:
— Филадельфия?
— Ну, может быть, Европа…
— В Европе такая антисанитарная обстановка… — заметила она, — и потом так угнетающе действует то, что не понимаешь, о чем кругом говорят люди. Я ненавижу Европу. Так откуда вы родом?
— Из Цинциннати, в штате Огайо.
— Какое прелестное название! Мне всегда хотелось съездить на Средний запад, но Сен Луи так далеко, а к Чикаго отец всегда относился неодобрительно. А где точно находится Цинциннати?
В это время на наш столик упала чья-то тень. Подошла Сильвия, исполнявшая свои обязанности гостеприимной хозяйки.
— Алисия, дорогая, как мило, что вы пришли, хотя и без Ралфа! Уж эти мне политики с их расписанным по минутам днем! Как поживает маленький Себастьян? Он, должно быть, сильно вырос.
— Полтора года. Да, он носится по всему дому. Очень симпатичный мальчуган.
Длинные темные ресницы прикрыли серо-зеленые кошачьи глаза. Ее гладкие матовые волосы чуть колыхались от движения воздуха, едва касаясь кремовой кожи. Говорила она по-прежнему гипнотически-монотонно, но я чувствовал и то, что напоминание о маленьком сыне ее взволновало, и то, что о своем муже она говорила не иначе как с презрением.
— Я не знала, что вы знакомы с Корнелиусом! — радостно проговорила Сильвия.
— Мы познакомились только что.
— Как странно — глядя на вас, можно подумать, что вы знаете друг друга много лет, — рассеянно заметила Сильвия и направилась в сторону британского чайного плантатора, уныло прислонившегося к дальней стене.
Я посмотрел на Алисию. Алисия посмотрела на меня.
— Ваш муж женился на вас из-за ваших денег, да? — спросил я ее.
— Да.
— Но вы поняли это только теперь.
— Да.
— И не решаетесь его оставить потому, что боитесь, что он попытается отнять у вас Себастьяна.
Теперь под гипнозом оказалась она, и, пока мы смотрели друг на друга, я увидел недостававшую половину самого себя и почувствовал огромное, радостное облегчение.
Выражение ее глаз изменилось, и внезапно мое собственное озарение отразилось в них вспышкой волнения, словно осветившей весь зал. Лица людей как будто стерлись, шум голосов превратился в неясный отдаленный гул.
Я потянулся к ее руке точно в тот самый момент, когда ее рука машинально нащупывала мою. Наши жизни прикоснулись одна к другой, слились и устремились вперед вместе, в едином, необратимом порыве.
Глава пятая
Когда через два дня в Нью-Йорк возвратился муж Алисии, она отказалась уехать с ним в Олбани и попыталась было уйти к своим родителям. Однако когда ее отец пришел в ярость, а мачеха отказала беглой жене от дома, она рассталась и с ними и поселилась со своим мальчиком и его няней в моем доме на Пятой авеню. В то время она была на шестом месяце беременности.
Я больше не задумывался над тем, что подумала бы обо мне моя мать, хота, если учесть мои чувства к Алисии, я, вероятно, посоветовал бы даже матери не соваться в мои дела.
Нью-йоркский свет в ужасе всполошился. Люди нас избегали. Молли Кникерброкер упоминал о нас в своей колонке лишь косвенно. Наши имена были так пропитаны грехом, что упоминание их запятнало бы любую приличную газету. Мне пришлось нанять дополнительных секретарей, чтобы разбираться в омерзительных, дышавших ненавистью письмах от фундаменталистов, бродячих проповедников и старушек из Дубьюка. Пришлось нанять двух новых телохранителей, обязанностью которых было отгонять фанатиков, ожидавших меня у ворот дома, чтобы забросать тухлыми яйцами, и двух новых адвокатов, чтобы отбиваться от нападок Фоксуорса через суд. Няня маленького Себастьяна не могла гулять с, ним в парке. Меня называли развратником, распутником и соблазнителем, отвратительным типом, а Алисию шлюхой, пренебрегавшей материнскими обязанностями.
Я не переставал удивляться тому, что люди судили нас, не имея ни малейшего понятия о том, что произошло на самом деле. И Алисия, и я верили в святость брака и материнства. Нашим общим желанием было пожениться, создать семью и хранить верность друг другу, как подобает добрым христианам. Мои критики кричали о том, что я ушел от своей беременной жены и отнял беременную женщину у ее мужа, но они совершенно не понимали, перед каким выбором я находился. Это был выбор не между верностью и адюльтером, а между честностью и лицемерием, и я был вовсе не викторианцем, а человеком двадцатого века, и не желал строить свою личную жизнь на лжи лишь для того, чтобы утихомирить мелочных демагогов, диктовавших светские условности. Я не выбирал момент для встречи с Алисией именно во время ее беременности или хотя бы после замужества. Но после того как я ее встретил, мне стало ясно, что не было такой силы, которая могла бы заставить нас расстаться. Как не было такой силы, которая могла бы сохранить хоть часть наших отношений с Вивьен после того, как они оказались разрушенными. Я был честен перед собой и перед людьми, и если это кого-то шокировало, мне было очень жаль, но не могло быть и речи о том, чтобы я поступился ради них своей честью.
Однако надо признаться, шум, вызнанный моим поведением, был весьма утомительным, и прошло некоторое время, прежде чем весь этот гвалт слишком надоел мне и я перестал обращать на него внимание.
К счастью, я был очень занят в банке и, хотя теперь не выходил в час ленча, с удовольствием съедал за своим письменным столом сосиску в булочке, запивая кока-колой и одновременно проглядывая статистические отчеты. Завтракать в партнерской столовой я давно перестал, так как все партнеры слишком резонерствовали по моему адресу, и мне было противно видеть, как радовался Стив моим неприятностям. Я понимал, что этот скандал нанес вред моей карьере, но знал также и то, что если буду продолжать усиленно работать, выполнять свои обязанности и не допускать при этом ошибок, моя репутация как банкира в конечном счете не пострадает. Хуже всего в моем положении было то, что вроде бы подтверждалось общее мнение обо мне как о слишком незрелом двадцатидвухлетнем парне, которого нельзя принимать всерьез. Но и здесь время работало на меня. Я неминуемо должен был стать старше, в конце концов, получить возможность жениться на Алисии и тогда вернуть себе и ей самое высокое всеобщее уважение, какое только можно себе представить.
Фактически мы уже жили спокойно, и мои вечера были не более экстравагантными, чем заполненные упорной работой, подчиненные жесткой дисциплине дни. У меня не было ни малейшего понятия о том, что думали о нас наши критиканы. Возможно, половину их измышлений питала убежденность в том, что мы предавались оргиям, которые заставили бы краснеть даже древних римлян, но истина, как часто бывает, была куда более прозаичной, чем любая фантазия. Я приходил с работы домой, и мы усаживались на полчаса на диване в гостиной второго этажа, обменивались новостями. Я выпивал немного томатного сока, Алисия потягивала из стакана молоко, и мы держали друг друга за руки. Покончив с соком, я уходил к себе, чтобы принять душ и переодеться к обеду, а потом присоединялся к Алисии в детской, чтобы пожелать спокойной ночи Себастьяну. Пища к обеду подавалась легкая, обычно рыба, а потом фрукты. Во время беременности, Алисия теряла всякий интерес к мясу и поглощала в огромном количестве яблоки. После обеда мы слушали наше любимое радио-шоу — опять-таки взявшись за руки, — а около половины десятого Алисия начинала зевать и отправлялась в постель. Она быстро уставала, и спать ей нужно было не меньше десяти часов в сутки.
Ни одна провинциальная пара супругов среднего возраста, замурованная в самых респектабельных предместьях, не вела более примерной жизни, и все же надо признаться, что у нас имелись свои трудности. Молодой паре, охваченной самой пылкой в городе любовью, было совершенно неестественно жить подобно стареющим провинциальным мужу и жене.

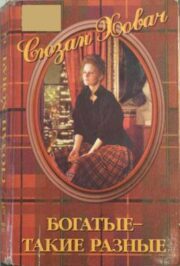
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.