— Ваша сестра прекрасная женщина, — сказал он мне тихим голосом, в котором все же слышались агрессивные нотки. — Ваша сестра совершеннейшая женщина всех времен.
— Моя сестра сумасшедшая. Потеряв самоуважение, девушка устремляется в дом мужчины лишь для того, чтобы испортить свою репутацию.
— Она делает это потому, что она святая.
— Сестра делает это потому, что она без ума от вас!
Глаза Стива расширились. Он порой становился чрезвычайно наивным.
— Я недостоин ее, — пробормотал он с неприятным смирением.
— Это ее мало волнует. Спросите ее и увидите сами, — посоветовал я ему, возвращаясь в толпу гостей.
В последний раз он говорил со мной перед тем, как мы с Вивьен отправились в свадебное путешествие.
— Вы крутой парень, — заговорил он. — Не думайте, что я не понимаю, насколько вы сильны. И вы правы. Это было бы наилучшим решением для всех нас… А вы действительно этого хотите?
— Бога ради! — раздраженно воскликнул я. — Что вы спрашиваете меня? Спрашивайте ее!
И я уехал во Флориду, а как только возвратился в Нью-Йорк, первым делом позвонил Эмили.
— Корнелиус! У меня для тебя прекрасная новость — надеюсь, ты не будешь возражать, но…
В то утро Стив сделал ей предложение. Я от всего сердца поздравил сестру и искренне сказал ей, что больше всего я хочу, чтобы она была счастлива. Если она думает, что сможет быть счастлива со Стивом, для меня этого достаточно.
— Корнелиус, дорогой мой, как ты добр! — Мое безоговорочное согласие явно сняло камень с ее сердца, и она принялась оживленно рассказывать мне, как все произошло, что именно сказал ей Стив, что она ему ответила, что сказали дети им и что они — детям. — …Свадьбу мы назначим, вероятно, уже на май. Разумеется, я понимаю, что следовало бы подождать, пока не пройдет год со дня смерти Кэролайн, но…
— В этом нет никакой необходимости, — прервал я сестру, хорошо зная, что Стив не любил ничего откладывать надолго. — У тебя есть кольцо?
Помолвка была официально объявлена в начале февраля, а уже на следующий день Хэл Бичер узнал от своих лондонских друзей, что Дайана Слейд за две недели до этого родила двойню.
— Мальчик и девочка, — тяжело вздохнул Хэл, знавший мисс Слейд еще тогда, когда у нее не было ни гроша в кармане, ни отеческой заботы. — Разве это не трагично, что такая яркая девушка способна допускать такие ужасные ошибки?
Но я понимал Дайану Слейд лучше, чем Хэл. Беременность была смелым шагом. Ошибкой была ее ссора со Стивом.
Я часто недоумевал, как она могла совершить такую ошибку, но так и не нашел удовлетворительного объяснения. Со стороны человека, расчетливо играющего по-крупному, такая ошибка была совершенно непонятна, и я стал спрашивать себя, уж не проглядел ли я какой-нибудь существенной черты ее характера. Мысль эта меня обеспокоила. Мне хотелось понимать ее так, чтобы предвидеть каждое ее движение, но она по-прежнему оставалась для меня загадкой, и меня стали очень беспокоить ее планы на будущее.
— Не бери в голову, Нэйл, — посоветовал Сэм. — Ты ее уже перехитрил. У нее могут быть планы на будущее, но ни ты, ни банк в них фигурировать не могут.
Но я постоянно думал о словах Пола: «Ты и Дайана — какое тщеславие!» — очень хорошо понимая, что таинственная и зловещая мисс Слейд еще не сказала своего последнего слова.
Глава четвертая
Кризис потряс Америку, но все верили в то, что рынок воскреснет, как Лазарь, и страна снова поднимется на ноги. Толпы народа каждый день собирались у стен Биржи в ожидании этого воскрешения, и, когда кто-то случайно открывал одно из окон банка, выходивших на Уолл-стрит, в него врывался гул голосов, принадлежавших уже не злобным и истеричным людям, но терпеливым и сдержанным. Ходили новые грозные слухи о махинациях с акциями минувшим летом, и с каждым днем все более настойчиво искали козла отпущения, на которого можно было бы свалить вину за катастрофу.
Наступил 1930 год — новое десятилетие, новый рассвет. Было похоже, что, ко всеобщей радости, рынок начал подниматься, но не больше чем на колени, перед тем как снова рухнуть в яму.
Люди постепенно начинали понимать, что воскресения не будет.
Страна сползала в неизведанную экономическую пучину, и в результате открывала для себя, что мир вовсе не шарообразный, а плоский. Средневековая матросская байка-кошмар стала неизбежной реальностью, и мы медленно, с железной неизбежностью, скользили к кромке знакомого мира и начинали падать в чудовищную, мрачную пропасть Депрессии.
— Послушай, Нэйл! — обратился ко мне Сэм. — Ты слышал последний анекдот про кризис?
Все смеялись над анекдотами про кризис. Выло просто непонятно, как люди еще могли смеяться. Бродвей полыхал рекламой пуще прежнего, кинотеатры ломились от зрителей. Повсюду царило бездумное веселье, с помощью которого каждому хотелось уйти от действительности, а действительностью были пустые бутылки в сточных канавах, пьянки, где никакая сплетня не была настолько циничной, чтобы ее не пожелали слушать, да бутлегеры, как крезы, разъезжавшие по Пятой авеню в своих лимузинах.
Все выглядело так, как если бы мы проиграли войну, пятидневную октябрьскую войну 1929 года, и теперь оккупированы каким-то невидимым озверевшим врагом. И опять-таки, как и в дни краха, очень немногие правильно понимали, что с нами происходило, а уж предвидеть, когда это все кончится, не мог вообще никто. Гувер пускал пузыри банальностей из Белого дома, Джон Д. Рокфеллер обещал всем, что все будет хорошо, а цифры роста безработицы ползли вверх так же быстро, как падал индекс Дау-Джонса.
Сэм во время краха потерял все свои сбережения и пребывал в состоянии горькой подавленности. В разговорах с ним я старался быть осторожным и ходил окольными путями, чтобы избежать опасной темы. Самым щекотливым в этой ситуации было то, что сам-то я стал богаче, чем когда-либо. Поскольку главной целью моих финансовых экспертов было обеспечение мне дохода без налогообложения, они никогда не пытались чрезмерно спекулировать от моего имени на крупном рынке повышения, и хотя я для развлечения и играл на рынке, но продал все, решив поверить предсказанию Мартина о депрессии. Его голос оказался голосом пророка. Мои потери были ничтожными.
Чтобы как-то облагородить эти большие доходы, я, словно признавая какую-то вину, увеличил благотворительные пожертвования и терпеливо выслушивал каждого, кто жаловался на убытки. Но печальная истина состоит в том, что когда человек начинает жить хорошо, он перестает замечать несчастья других. Я старался делать все, что мог, но мои проявления внимания часто ставились под вопрос.
Тем временем мой дом стал ухоженным и чистым, как роскошный отель.
Люди вставали в огромные очереди, чтобы получить приглашение на наши большие званые обеды, а позднее, когда я принял решение о том, чтобы в дальнейшем стать филантропом, с таким же энтузиазмом все приходили на мои литературные вечера. Мой друг Кевин, уже опубликовавший один роман и работавший тогда над «Большой американской игрой», помог мне войти в широкий круг известных литераторов, включавший и деспотов-критиков, и авторов, боровшихся за свое существование, и скоро я нанял еще одного помощника, который прочитывал все наиболее значительные книги сразу же после их выхода, после чего должен был составлять краткие изложения их содержания. Я не был невеждой, как и все, очень любил читать, но время у меня было неизменно ограничено, и поэтому такие аннотации становились для меня необходимым компромиссом. Моим любимым автором стал Хемингуэй. Я сам читал его книги, тем более что они были небольшими по объему. Мне нравился его лаконичный, вполне мужской стиль, хотя я и с сожалением находил, что он слишком много писал о неудачниках.
Мое знакомство с современной музыкой оставляло желать много большего с тех пор, как Сэм переехал из моего дома в шикарную холостяцкую квартиру на Парк авеню. Но возвратившись из свадебного путешествия, я заметил, что он утратил интерес к джазу и обратился к более серьезной музыке. Он пытался заставить меня слушать записи Глена Грэя, но, откровенно говоря, как не раз я уверял и его самого, я предпочитал Моулеровский вариант «Александер рэгтайм бэнда».
Третий мой бархарборский компаньон, Джейк Райшман, вернулся из Германии, где учился целых три года, и теперь работал в банке своего отца. Мы с Сэмом иногда встречались с ним на ленчах, но чувствовали себя в его присутствии неловко, так как он стоял в самом низу лестницы, тогда как мы штурмовали уже самую верхнюю ступеньку. Его отец был предан традиционным идеям в области образования молодых банкиров, и Джейк смутно намекал на то, что не надеялся на место партнера, пока ему не исполнится тридцать лет.
— Идите работать к нам, в банк «Ван Зэйл», — предложил я.
— Еврей в американском банке? — смеясь, ответил он вопросом на это предложение.
— Это старомодный разговор, Джейк! — возразил Сэм. — Даже у Куна и Лейбы работают не только одни евреи.
— А есть хоть один еврей у Моргана?
Мы продолжали настаивать, но, хотя Джейк с улыбкой сказал, что не мог бы пожелать себе лучших друзей, он отклонил наше предложение. Я этого ожидал, но все же почувствовал разочарование, когда он сказал, что останется верен отцовскому банку.
Мы отнеслись к этому решению флегматично, но скоро неравенство нашего положения в банковском мире стало вызывать неудобства, и мы все реже встречались с ним за ленчем. Я хотел было нарушить традицию нью-йоркских аристократов иным подходом к социальным позициям, но Вивьен в не слишком уверенных выражениях дала мне понять, что, несмотря на некоторую расплывчатость социальных идей в двадцатые годы, фактически никто не хочет поощрять социальное смешение.
— У них своя толпа, — говорила она, — а у нас своя. Они предпочитают, чтоб было так. Спасибо Отто Кану. Когда, в конце концов, ему предложили ложу в «Золотой подкове», он отказался от нее.

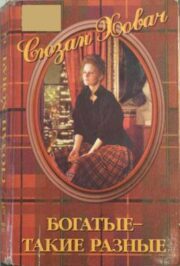
"Богатые — такие разные. Том 2" отзывы
Отзывы читателей о книге "Богатые — такие разные. Том 2". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Богатые — такие разные. Том 2" друзьям в соцсетях.