— Ну? — почти ласково спросил Лемерль. — Так или нет?
Наступило молчание. Теперь до меня дошло, как умело воспользовался Лемерль моим вмешательством. Если епископ отвергнет обвинение Святой Девы, тогда он признает самозванство Лемерля и Изабелла подожжет запал. Если согласится, то будет публично разоблачен в присутствии архиепископа, своей свиты и всей паствы женского монастыря. Но одно обстоятельство не учел Лемерль, хотя я пока еще не знала, как именно, — да и стоит ли — им воспользоваться себе во благо. У боковых дверей, почти невидимая в дыму жаровни, стояла сестра Антуана, набычившись, словно приготовившись к бою.
Пожалуй, я должен быть тебе благодарен, моя Жюльетта. Откуда ты узнала, ума не приложу — возможно, это колдовство. Но какой дивный случай вынудить его исповедоваться! Пожалуй, мой план был более драматичен, — ты же знаешь, я обожаю огонь, — но я мог бы догадаться, что ты попытаешься защитить это жалкое стадо, тех, кого ты именуешь сестрами. Что ж, милая, поступай, как знаешь. Пусть живут себе и дальше — если ты считаешь, что это жизнь. В любом случае, справедливость восторжествовала.
— Я жду, святой отец?
Арно медленно кивает.
Раздалось общее: А-а-ах-х-х! Как будто рухнул с высот карточный домик.
— Это ложь! — сказала Изабелла.
— Нет, милая. Это правда.
Не сводя с епископа глаз, Лемерль внезапно распахнул свое облачение и сбросил его наземь. Из толпы сестер взвились крики. Под сброшенной сутаной Лемерль был в облачении для верховой езды: в сапогах со шпорами и кожаном жилете, выставлявшем на обозрение левое предплечье с клеймом. Это был Черный Дрозд прежних дней. Он стоял перед толпой и улыбался, как бы в завершение спектакля, и именно в этот момент яркая молния с треском расколола небо, внезапно озарив его белым сиянием. Толпа заголосила так, что я уже не в силах была это выдержать. Их вопли, как волны прибоя, цеплялись мне за ноги. На мгновение я взглянула прямо вниз, и внезапно мир накренился подо мной. Я почувствовала, что вот-вот задрожит левая икра, чуть подрагивала мышца, и если не унять дрожание, веревку из-под меня выбьет и я кувырнусь вниз.
Я поняла: именно этого ждет Лемерль, видимая небрежность сбрасывания одежд была столь же хладнокровно просчитана, как и весь его замысел. Один против шестидесяти при равных шансах — даже он мог бы не рискнуть вступить в игру, но если я сорвусь…
Я снова переступила, нервно ощущая и провисающую веревку, и все эти белые чепцы под собой, бдящие, точно чайки, в этом безбрежье глаз.
Еще секунд десять, и она сорвется. Еще десять секунд, все глаза прикованы к белой фигуре в воздухе. Чуть отклонится — летящее тело, и вот уже разбитое на мраморных плитах, — как раз достаточно мне времени, чтобы определить, куда бежать. Если не выйдет, придется прибегнуть к оружию. Каждая из этих сестер, возможно, увязалась бы за мной, но я бы предпочел в качестве заложницы Изабеллу. Шпага, лошадь, бешеная скачка в сторону материка. Я мог бы кинуть в ров трупик крошки, пусть ищет племянницу, но лучше попридержать ее рядом с собой. Уж я сумею найти в пути для нее применение, и каждодневно буду впиваться в ее плоть колючей проволокой своей мести. Не ради себя — нет, не тот случай. Но ради нее, Жюльетты, моей прелестной обманщицы.
Как мог я дойти до того, чтоб желать смерти моей Элэ! Он и за это тоже заплатит, увидите, и сполна. Паства слилась в единый хор. Единая нота — бесконечный, выпеваемый гласный звук их отчаяния — взлетает, падает вниз, снова воспаряет. Одни в смятении воют, другие царапают себе щеки. Но все взгляды теперь на ней и на мне, я смотрю на нее, она смотрит на меня. Переворот выигрышной карты — валет внизу, дама сверху — и наши роли в очередной раз могут поменяться. Даже стража застыла как вкопанная, не успев вытащить мечи из ножен, ожидая приказа, который так и не поступил.
Я понимаю тебя, Лемерль. Ты ждешь, когда я сорвусь. Чтобы выиграть время. Я чувствую, как ты хочешь, как сильно желаешь ты, чтоб я соскользнула, оступилась, чтоб веревка дугой откинулась в пустое пространство без меня, сверху донизу разрезая темноту до самого пола. Я чувствую, как ты мысленно сталкиваешь меня. Я уже вся промокла под дождем, едва вода из водостока хлынула в башню. Колокол, висящий от меня всего в трех футах, дробит свой звук на тысячи звучных капелек. Я не сорвусь — я не сорвусь. Но поток внизу притягивает меня, затекшие мускулы вопят о передышке. Мне кажется, что я уже долгие часы стою тут без движения.
Снова веревка дрогнула в ответ на непроизвольную судорогу. От неотрывных взглядов сестер темнеет в глазах. И все-таки я ни за что…
не…
должна…
упасть…
Я вижу, как все это происходит, с ясностью сна. Серией картин, каждая сопровождается блеском молнии и громом, ударяющим неподалеку — несколько раз, в быстрой последовательности. Она оступается, провисающая веревка ускользает из-под ног, она срывается — мгновение я вижу, как она широко взмахивает руками, обнимая темноту. Удар. Гремит гром, громче обычного, почти над самой головой. И долю секунды я почти убежден, что молнией ударило в саму башню… И в за ударом грянувшем мгновении темноты я слышу, как падает вниз веревка.
Я понимаю, что сейчас надо бежать, их внимание отвлечено. Но не могу; придется полагаться только на себя. Сестра Антуана охраняет выход. Опасное выражение на ее лице, но она явно слишком неповоротлива, чтоб послужить мне помехой. Стоило мне на нее взглянуть, как она двинулась в мою сторону. Лицо точно каменное; теперь вспоминаю, сколько силы в этих красных ручищах, про ее мясистые кулаки. И тем не менее она всего лишь женщина. Даже если повернулась теперь против меня, что сможет она сделать?
Сестры столпились кругом; верно, пялятся на распластанное тело. Вот-вот начнутся крики, суматоха, и во время этой суматохи я и улизну. Сестра Виржини смотрит на меня, сжимая кулачки; рядом с ней сестра Томасина, прищурилась, глаза, как щелочки. Я снова делаю шаг вперед, и монашки взрываются кудахтаньем, словно переполошившиеся куры, даже не хватает ума попятиться. Я понимаю; мой внезапный страх — глупость. Смешно думать, что они хотят преградить мне путь; все равно что ожидать, будто домашний гусь может напасть на лису.
Но что-то повернулось не так. Их взгляды, которые должны быть прикованы к трупу на полу, наоборот, направлены на меня. Вспоминаю из детства, что даже гуси, если их раздразнить, могут быть весьма воинственны. И вот теперь они пытаются встать у меня на пути, сестра Антуана вздымает кулак, от которого мне ничего не стоило бы увернуться, сцепив руки за спиной, но я к своему изумлению как подкошенный валюсь наземь еще до того, как меня поразил ее кулак. Что за чертовщина! Я поднимаюсь на колени, голова гудит от сильного удара в спину, но я испытываю лишь что-то вроде изумления.
На полу тела нет.
Удар.
И башня пуста.
15
♥
7 сентября, 1611
Бродячий театр Жана-толстяка, Карем
Есть воспоминания, которые не меркнут никогда. Даже в жаркие дни этой славной осени, в этом славном городке, что-то во мне все еще осталось там, в монастыре, во время дождя. Возможно, что-то во мне и умерло там — умерло или родилось заново, точно сказать я не могу. Во всяком случае, я, которая никогда не верила в чудеса, стала свидетельницей чего-то, меня изменившего — пусть не сильно, но навсегда. Может, в тот момент сама Сент-Мари-де-ля-Мер была с нами. Теперь спустя целый год я сижу здесь и почти верю в то, что так и было.
Я почувствовала, как веревка уходит. Свело мышцу, наверное, или совсем ослабло натяжение, или гнилая балка треснула. Помню миг отчаянного спокойствия, застывшего в блеске молнии, точно муха в янтаре. И, в последнем, отчаянном порыве потянувшись, когда в опустошенном мозгу лишь одна мысль — если бы я была птицей — чувствую, как пальцы тянутся, но ничего под рукою нет, ничего.
И вдруг прямо перед собой вижу: еле видная паутинка, веревка. Это прямо было чудо какое-то; падая, я чуть не упустила ее, но все же сообразила ухватиться. Правой рукой промахнулась, но инстинкты еще были живы, и я крепко уцепилась левой, на мгновение закачавшись в воздухе в каком-то дурацком неверии, — как вдруг увидала бледное личико в прорехе крыши, искаженное нетерпеливыми потугами изобразить мне губами какие-то знаки. И я поняла.
Перетта не бросила меня. Должно быть, она вскарабкалась на леса, оставленные работниками, и наблюдала за происходящим в дырки между филенками. Я подтянулась кверху — умение карабкаться по канату, как и балансирование на нем, забывается не скоро, — и выбросилась на скользкую крышу, как рыба на берег.
Некоторое время я лежала без сил, и Перетта обнимала меня, ухая от радости. Внизу под нами закипали звуки, непостижимые, как волны прилива. Мне кажется, я потеряла сознание; какое-то время я куда-то плыла, омываемая дождем, и запах моря щекотал мои ноздри. Больше я не взлечу никогда. Я это понимала; это был последний полет Крылатой Элэ.
Но вот Перетта потормошила меня легонько маленькой ручкой. Я открыла глаза: передо мной быстро замелькали в мимическом рассказе ее руки. Лошадь; знак «скорее»; жест, каким она всегда изображала Флер. И снова. Флер, скачка, быстрее. Я села, голова у меня кружилась. Моя дикарка права. Чем бы ни закончилась драма Лемерля, оставаться здесь неразумно. Сестра Огюст также завершила программу последним своим выступлением, и я поняла, что, в конце концов, я об этом не жалею. Взяв меня за руку, Перетта молча повлекла меня к лестнице, которая по-прежнему стояла на своем месте в пятнадцати футах ниже по склону крыши. Казалась, Перетта совершенно не испытывает страха, она лазала по крыше с легкостью кошки, легонько балансируя на краю сломанного водостока, пропуская меня впереди себя. Капли дождя хлестали по лицу и барабанили по голове, гром громыхал над головами, точно камнепад в горах, примерно в ста ярдах стояло пораженное молнией и охваченное пламенем дерево, озаряя все вокруг слабым апокалиптическим сиянием. И посреди всей этой бури мы с Переттой хохотали, как безумные; мы хохотали от чистой радости перед дождем и грозой, от того, что мне удалось вырваться, и прежде всего — мы хохотали над выражением его лица, над выражением лица Лемерля, увидевшего, что ему не избежать беспримерной расправы от стаи разъяренных монашек…

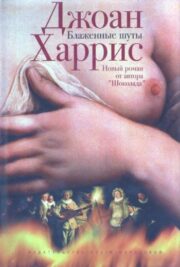
"Блаженные шуты" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные шуты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные шуты" друзьям в соцсетях.