Любовь редка, но неизбывна. Так говаривала моя мать, и всю мою жизнь душа моя отзывалась именно на эти слова. До монастыря мне казалось, что я понимаю, что это такое. Любовь к матери; любовь к друзьям; темная и многосложная любовь женщины к мужчине. Но когда родилась Флер, все переменилось. Человек, никогда не видевший океана, возможно, думает, будто представляет его себе; но исходит лишь из того, что он знает, — его воображение рисует множество воды, больше, чем в мельничном пруду, больше, чем в озере. Реальное, однако, превосходит все наши ожидания: запахи, звуки, восторг и радость при виде настоящего океана ни с чем не сравнимо. Так и с Флер. С тринадцати лет не испытывала я подобного мощного пробуждения чувств. Матушка Мария поднесла ее впервые к моей груди, и в тот же миг я поняла: мир стал другим. Раньше я жила сама по себе, только этого не понимала. Я странствовала, боролась, страдала, плясала, блудила, любила, ненавидела, горевала и торжествовала — неизменно одна; проживала день за днем, как дикое животное, ни о чем не заботясь, ни к чему не стремясь, ничего не страшась. И вдруг в одночасье все сделалось иным: в мир явилась Флер. Я стала матерью.
Но этот восторг таит в себе опасность. Да, я знала прежде, что дети часто умирают в раннем возрасте, — столько раз видела во время своих странствий, как они гибнут от болезней, от несчастного случая, от голода, — но раньше при этом я не испытывала ни боли, ни чувства невосполнимой потери. Теперь я боюсь всего. Бесстрашная Элэ, плясавшая на канате и летавшая на трапеции, превратилась в жалкое существо, в кудахчущую наседку; и ради чада своего ищет защитный кров, хотя прежде только и жаждала приключений. Лемерль, вечный игрок, презрел бы эту мою слабость. Не садись играть, если есть что терять. Но все же, где бы он ни был сейчас, он достоин жалости. Океан не случился в его жизни.
Нынче вторую заутреню отслужили наспех; первую заутреню и хвалы вообще пропустили. Я одна в церкви, брезжит рассвет, молочный свет льется на кафедру сквозь прохудившийся шифер крыши. Сочится мелкий дождик, и капли, вытекая по выщербленному желобу, выбивают трезвучное арпеджио. В тот год, когда строили пекарню, мы продали почти весь свой свинец; разжились дрянным камнем вместо дорогого металла. Хлеб вместо ремонта крыши южного нефа. Утроба превыше святости. Вместо свинца залепили глиной, покрыли известковым раствором. Недолговечная замена.
Сент-Мари-де-ля-Мер смотрит со своей высоты круглыми, пустыми глазами. Прочие ее черты стерты временем. Громадная каменная баба тяжело осела, точно цыганка, изготовившаяся рожать. Через раскрытую дверь слышны накаты волны на отмель, крики птиц. Это чайки, кто же еще. Черные дрозды сюда не залетают. Интересно, видит ли меня сейчас Матушка Мария. Слышит ли и святая мою беззвучную молитву.
Может, это крики чаек вдруг взбудоражили меня? Или через отмель дыхнуло свободой?
Черные дрозды сюда не залетают.
Но поздно, поздно! Встрепенувшись, мой злой демон упирается, не дает себя прогнать. Образ будто впечатался мне в веки, даже закрыв глаза я вижу его. Видно, он никогда меня не отпускал, Черная Птица моего злосчастья. Во сне ли, наяву он всегда был со мной. Пять лет покоя — слишком щедрый подарок; видно, большего я не заслуживаю. Как говаривают местные, все возвращается. И, как волна прилива, накатило прошлое.
5
♥
9 июля, 1610
Из самых ранних моих воспоминаний: наша кибитка, выкрашенная оранжевой краской, с одного боку нарисован тигр, с другого — изображена пасторальная сценка с овечками и пастушками. Когда я была паинькой, то играла там, где нарисованы овечки. Когда бунтовала — меня отправляли к тигру. Признаться, тигр мне нравился больше.
Я родилась среди цыган, у меня было много матерей, много отцов, и не один родительский кров. Родной моей матерью была Изабелла: высокая, сильная, красивая. Были еще акробат Габриэль и Принцесса Фарандола, безручка, управлявшаяся пальцами ног; была черноглазая предсказательница судьбы Жанетт, в чьих умелых морщинистых руках карты вспыхивали на лету, точно искры; и еще был еврей с севера Италии по имени Джордано, умевший читать и писать. Не только по-французски, но и по-латыни, и по-гречески и на древнееврейском. Родней, насколько помню, он мне не приходился, но заботился обо мне больше, чем другие, и по-своему, скупо меня любил. Цыгане звали меня Жюльетта. Другого имени у меня не было, зачем оно мне.
Джордано и выучил меня грамоте, читал мне книжки, которые прятал в тайнике в глубине кибитки. Это он рассказал мне про Коперника, поведал, что девять небесных сфер не вращаются вокруг земли, что это Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. И многое другое, хотя я и не все понимала, например, про свойства металлов и веществ. Он научил меня изготовлять горючий черный порошок из смеси каменной соли, серы и угля; показал, как его запаливать с помощью длинного шнура. Все дразнили Джордано философом, смеялись над его книжками и его опытами, но именно благодаря ему я выучилась читать, распознавать звезды и не верить Церкви.
Габриэль учил меня жонглировать, крутить сальто, плясать на канате. Жанетта — раскладывать карты, раскидывать кости; от нее я узнала о пользе растений и трав. От Фарандолы восприняла гордость и независимость. У своей матери выучилась премудростям цвета, голосам птиц, а также знакам, отводящим беду. Еще я научилась обчищать карманы, орудовать ножом, при случае пускать в ход кулаки, вилять задом перед уличным пьяницей, завлекая его в темный уголок, и там достаточно было лишь ловкости рук, чтобы мигом вытянуть у него из кармана кошелек.
Мы странствовали по большим и малым городам вдоль побережья, никогда подолгу не застревая на одном месте, чтоб не привлекать нежелательного внимания. Мы часто бывали голодны, нас чурались все, кроме самых бедных и несчастных, нас честили по всей стране со всех амвонов, винили во всех бедах от засухи до яблочной гнили, но мы черпали радость где могли и помогали друг дружке кто чем мог.
Мне было четырнадцать, когда нас всех разнесло по свету, во Фландрии фанатики сожгли наши кибитки, обвинив нас в воровстве и в колдовстве. Джордано бежал на юг, Габриэль к границе, а меня мать оставила на попечение монахинь-кармелиток в маленьком ските, пообещав вернуться за мною, едва минует опасность. Я прожила у кармелиток почти два месяца. Монахини были добрые, но бедные, почти такие же бедные, как мы, и по большей части запуганные старухи, не способные высунуть нос за пределы своей монашеской обители. Мне же их уклад был ненавистен. Я тосковала по матери, по своим друзьям; тосковала по Джордано и по его книгам; больше всего тосковала я по вольной кочевой жизни. От Изабеллы не было ни слуху ни духу. Ни единого словечка, доброго или худого. В картах выпадала сущая неразбериха — всё чаши да мечи. Все во мне зудело — от стриженого ежика на голове до самых пяток, так нестерпимо тошно было жить среди старух. Однажды ночью я все-таки сбежала, прошагала миль шесть пешком в глубь Фландрии и на пару недель затаилась, питаясь объедками, в надежде что-нибудь прослышать про нашу бродячую труппу. Но уже стало подмерзать; у всех на уме была только война, и мало кто мог вспомнить каких-то бродячих актеров-цыган. С отчаяния я подалась обратно к монахиням, но дверь оказалась на замке, а на ней был начертан знак: чума. Что ж, выходит — с прошлым покончено. Получу ли, нет ли весть от Изабелы, все равно ничего другого мне не оставалось: надо было жить своим умом.
Словом, осталась я совсем одна, без опоры и зашиты. И вот, как нищенка, где подворовывая, где подбирая объедки, я мало-помалу пробиралась к столице. На время прибилась к одной итальянской труппе, выучилась их языку и азам комедии дель-арте. Но итальянское уже выходило из моды. Года два мы протянули, как бы того не замечая, но под конец моих не слишком удачливых товарищей потянуло на родину к апельсиновым рощам и к согретым солнцем голубым горам. Я могла бы отправиться с ними. Но то ли мой злой демон побудил меня остаться, то ли желание двигаться в своем направлении. Распрощавшись с итальянцами, я одна, правда на сей раз уже накопив немного денег, снова устремилась навстречу Парижу.
Там я впервые и повстречала Черного Дрозда. Прозванный Лемерлем[13] за природный жгуче-черный цвет волос, в среде изнеженных придворных он вел себя как сущий баламут, вечно что-то вытворял, при этом почти всегда избегая немилости, хотя неизменно балансировал на грани дозволенного. На первый взгляд, ничего особенного в нем не было, он любил одеваться просто, без излишних украшений, но глаза его вбирали и свет, и тень, как деревья в лесу, и такой необыкновенной улыбки я больше ни у кого не видала: улыбки человека, для которого мир и забавен и нелеп. Все для него была игра. Чины и почести его не привлекали. Он жил вечно в долг и церковь не жаловал.
Меня привлекла в нем его беззаботность, в этом мы были схожи. Но все же мы были с ним очень разные, он и я. В свои шестнадцать я была маленькая дикарка. Лемерль был десятью годами старше. Своенравный, непокорный, неистовый, — как было в него не влюбиться.
Цыпленок, едва вылупившийся из гнезда, принимает за мать первое встречное существо. Лемерль подобрал меня на улице, дал работу. Больше того, он возвратил мне утраченное достоинство. Вот я и влюбилась в него, безоглядно, с обожанием едва вылупившегося птенца. Любовь редка, но неизбывна. Поделом мне.
У него была труппа танцоров-лицедеев, Théâtre du Flambeau[14]; им покровительствовал Максимильен де Бетюн, впоследствии сделавшийся герцогом Десюйи, обожавший балет. Случались и иные представления, не столь публичные и без благодетеля, но при том все же имевшие свою публику — приближенных короля. Лемерль вел тайную, рискованную игру, прибегая к шантажу и интригам, скользя по лабиринтам светского общества и почти не впадая в соблазны, подстерегавшие его за каждым углом. Хотя, похоже, настоящего его имени никто не знал, я держала его за благородного, — с ним многие считались. Его Ballet des Gueux, «Балет нищих», имевший невероятный успех при дворе, мигом всех покорил, хотя некоторые и обвиняли его в нечестивости. Не смущенная хулой, его дерзость дошла до того, что он вовлек и придворных в участие в своем Ballet du Grand Pastoral[15], а герцога де Крамэй заставил одеться в женское платье, и даже задумал создать, к моменту моего появления в труппе, Ballet Travesti[16], чему суждено было стать последней каплей, переполнившей чашу терпения достопочтенного патрона.

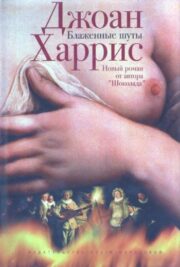
"Блаженные шуты" отзывы
Отзывы читателей о книге "Блаженные шуты". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Блаженные шуты" друзьям в соцсетях.