Такой же калейдоскоп ждал ее в «Мини-Ферс инкорпорейтид» на Седьмой авеню, и чтобы отвлечься от бессмысленной жизни вокруг, она задумалась над тем, в чем пойти на вечеринку к Аните. В промежутке между демонстрацией кротового манто для покупателя из Атланты и получением контактных линз для мистера Свернса Симона решила, что наденет коричневое с белым мини-платье с меховой опушкой (до сих пор еще не оплаченное), ничего под ним, только чулки, чтобы не замерзнуть. В окне рядом с офтальмологом была фотография очаровательной брюнетки в персидской каракулевой шубке. На нее восхищенно смотрел мужчина. Надпись внизу гласила: «Мужчины обращают внимание на девушку в персидском каракуле».
В демонстрационном зале, когда она туда вернулась, была обычная смертная тоска. Покупатель из Атланты хотел, чтобы ему показали что-нибудь из аргентинской пятнистой кошки.
И вот в девять тридцать вечера, приняв душ (да, Господи, я теперь чиста!), Симона пристегнула к сетчатым чулкам четыре подвязки от пояса телесного цвета и задумалась, не слишком ли поздно начинать жизнь с нормальным мужчиной. На ее памяти таких вообще не встречалось. Осталась ли возможность? Постой-ка. А тот женатый торговец из Кэмдена? Он был относительно… но тут она вспомнила его привычку звонить по воскресеньям и, пуская слюну в трубку, просить описать ее белье. Сначала тебя одурачивают. И чем святее они кажутся вначале, тем омерзительнее оказываются потом. Как тот инженер по электронике, который любил смотреть, как она трахает себя свечкой. Симона даже была не очень против, но любая свеча казалась ему маленькой. А она еще и боялась момента, когда он зажигал свечу с другого конца и с восторгом наблюдал, как горячий воск капает на самые интимные места.
У нее не было оснований полагать, что те, кого встретит на вечеринке у Аниты, будут лучше предыдущих засранцев. И все же не оставляла надежды. Даже не осознавая этого, она полагалась на тихого, серьезного вида студента антропологии, который жил с пожилой матерью.
— Может ли изучение культур других народов помочь нам понять наше общество, его проблемы и перспективы? — мог он спросить вскоре после соития, вперив в нее взгляд сквозь очки. А когда они занимались любовью, это было неземное блаженство, два тела парили над грубой реальностью, которую оба презирали.
Уже девять тридцать. Симона щедро опрыскалась спреем, сунула Чу-Чу в коричневую сумку и пошла в «Русский чайный дом» на другой стороне улицы.
— Мы идем на вечеринку, — сказала Симона, — но еще рановато. Будьте добры мне бренди «Александр».
Она заметила мужчину, сидевшего неподалеку. Ему было за пятьдесят, с бородкой, в расстегнутой рубашке и куртке «сафари».
— Вечеринка, — сказал он. — Как странно.
Когда Симона не ответила, он спросил, не живет ли она по соседству, и прежде чем успела ответить, добавил, что так и должно быть, потому что это единственное культурное заведение во всем Нью-Йорке. Между ними был пустой стул, и мужчина сел на него.
— Почему бы вам не пригласить и меня на вечеринку? — спросил он. — Вы могли бы уложить меня в сумку вместе с этим маленьким чудовищем. Между прочим, дорогая, левые ресницы у вас загнулись.
— Они приклеены.
— Такой уж клей, дорогая.
Он не понравился Симоне. Наверное, фанатик атлетизма, часто дышит затхлым воздухом залов, который так вреден для его слабых легких. Она быстро допила бренди и расплатилась.
— Мы можем пойти ко мне, и я исполню вам мою сонату.
На своем хилом члене, это точно.
— Мне эта идея не нравится, — сказала Симона. — При ваших больных легких.
Очутившись на улице, она поймала такси и назвала адрес Аниты. Вечеринка уже должна быть в полном разгаре. Забавно, знакома ли она хоть с кем-то из мужчин? Забавно, будет ли хоть кто-то из них интересен ей? И забавно, заинтересует ли кого-то она?
— Осторожно, мудак! — завопил шофер на пьяного пешехода.
Симона откинулась на холодную спинку сиденья, когда такси ехало по Пятой авеню, и задумалась, будет ли хоть один из мужчин (которых созвала пышнотелая Анита), хоть один, хоть чуть-чуть, пусть даже до омерзения, но НОРМАЛЬНЫМ?
Когда три дня тому назад муж Беверли Нортроп сказал ей, что он пригласил своего издателя на ужин в среду вечером, Беверли ответила:
— О дорогой, неужели снова жареные ребрышки и картофель?
— Нет, дорогая, — сказал Питер. — У Тони очень разнообразные вкусы. У тебя потрясающая возможность проявить себя, приготовив какое-нибудь экзотическое блюдо. И все равно ты его не удивишь. Тони долго жил во Флоренции. Сама понимаешь. Жуткий сноб.
Беверли подумала о том, как смешно прозвучало в устах Питера последнее замечание. Ведь он, когда его вызвали на ковер за еретические высказывания в адрес настоятеля собора, твердо заявил:
— Я должен поправить вас, доктор Фримонт. У меня не совсем нет веры.
— Ладно, — ответил доктор Фримонт, — тогда расскажите нам, во что вы верите.
— С удовольствием, сэр. В Гарвард и мою семью.
Тогда Беверли решила, что это очень мило со стороны Питера. Но это было два года тому назад, до того, как родился Питер-младший, до того, как их дочь превратилась в маленькое чудовище, до того, как Питер стал работать у Тони Эллиота. Если бы доктор Фримонт задал тот же вопрос сегодня, Беверли не знала бы, что ответит Питер. Его подлинные мысли. Питер так сильно изменился за последние пару лет, что Беверли иногда думала, что совсем не знает его, что он так не похож на застенчивого студента, в которого она влюбилась, заканчивая университет Уэллесли.
Беверли никогда бы не полюбила Питера, если бы встретила его в Солт Лейк Сити. Она представить себе не могла Питера в Солт Лейк Сити, хотя он дважды там побывал: впервые — на их свадьбе, а во второй раз — на похоронах ее отца. Беверли вспомнила, как провела его по стране мормонов. Как он стоял на площади Храма перед памятником чайке (единственный в мире памятник птице) и, прищурившись, смотрел на него таким восточным взглядом. Да, Питер принадлежал Востоку, а Восток был чужд ей. Даже сейчас, прожив с ним одиннадцать лет, Беверли ощущала себя абсолютно чужой в этой квартире на этой бесцветной земле и часто жалела, что отец не разрешил ей учиться в университете Юта, совсем близко от дома, близко от всего, что она любила. Он тогда сказал, что ей нужно расширять горизонты, нужно ехать на Восток, покинуть матку и выйти в большой мир. Потому что и она была застенчива.
В Уэллесли Беверли жила в Башне, девушка в Восточной Башне, которая влюбилась в парня с верхних этажей Бек Холла. Через несколько лет, рожая дочь, когда Беверли корчилась и стонала в госпитале Минеоды, по некоторым причинам (без всяких причин, по любой причине) она сообразила в промежутках между схватками, что полюбила и вышла замуж за Питера Беннета Нортропа III из Бруклина, штат Массачусетс, точно так же, как француженка, которая впервые приехала в Штаты и полюбила американца от чувства одиночества и легкого привкуса экзотики.
Экзотичным был и вскоре купленный дом, пятнадцатикомнатный замок в стиле Тюдоров в районе Гарден Сити. Эта покупка была бессмысленной.
Правда же, бессмысленной, мама? (Писала Беверли матери в тот день, когда Питер подписал бесконечные бумаги о владении недвижимостью.) У нас теперь есть наше собственное пристанище, набитое башенками, шпилями, карнизами, цветными стеклами, тяжелыми дверями. Есть даже прекрасная разноцветная шиферная крыша, по которой мне хочется скатиться, но Питер не позволяет, говоря, что я сломаю шею. Дом слишком элегантен для нас, как сказала я Питеру, но он не послушался. Утверждает, что нам он подходит, потому что стоит девяносто тысяч долларов, и мы должны жить именно в таком доме, потому, черт подери, что можем себе это позволить, дорогая девочка (как он не слишком часто меня называет), ведь мы же до опупения БОГАТЫ.
Ее мать никогда не любила Питера, а мать не была мормонкой. Ее отцу Питер не очень нравился, а он был плохим мормоном (пьяным, обкуренным, редко Молившимся). Он резким вибрирующим голосом здоровался с незнакомцами на улицах с таким чувством превосходства, какого никогда не встретишь на Востоке. Питер был не самым приятным человеком в мире: слишком нетерпимым ко многому и, что еще хуже, даже не старался скрыть своей нетерпимости. Но в то же время он был еще и застенчив. А этого не хватало очень многим людям. Они бы простили его, часто думала Беверли, если бы знали, как трудно жить ему в мире. В этом была суть их связи, их общая беда, их общее сокровище: драгоценная, нерушимая, постоянная робость. Она была их убежищем и крепостью.
Медовый месяц они провели в Париже, и Питер был застенчив в отеле «Ланкастер». Потом поехали в Канны, и он был застенчив в отеле «Карлтон», что не помешало им стать модными отдыхающими. Он в белом пиджаке, она в белом платье, оба загоревшие до цвета кофе с молоком. Потом они жили в другом «Карлтоне», в другом городе и в другой стране: в Аликанте, на юго-восточном побережье Испании, где пили росадо и ушли из цирка в разгар боя быков… Это была идея Питера. Беверли было все равно, но ее интересовало, почему он считал важным уйти именно в эту минуту. Это был не самый интересный момент. Матадор готовился вонзить бандерильи в быка, и для большинства зрителей это было самым главным. В движении, которым матадор изгибал тело и уклонялся от атаки быка, была какая-то птичья грация, и это резкое движение, думала Беверли, было красивым, особенно красивым благодаря ярко-зеленому костюму, тесному, как вторая кожа. Но Питер взял ее под руку и сказал: «Vamonos». Идем. Единственное испанское слово, которое он знал.
— Но почему? — спросила она позднее, когда они сели выпить росадо в тенистом кафе.
— Это спорт педиков. Для американцев это так. Извини, но я не могу благоговеть и восторгаться так называемым искусством боя быков. Я сыт по горло видом быков и мужчин, которые убивают их какой-то палкой, торчащей из штанов. Скучно смотреть на тупых быков и верить, что у них есть яйца, дорогая. Я предпочитаю реальные вещи, а их в Испании нет, давно уже нет. Вся страна выпала из жизни мира, заснула во мраке. Ничего живого.

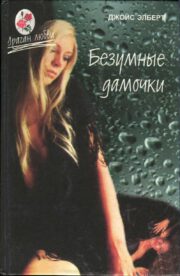
"Безумные дамочки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Безумные дамочки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Безумные дамочки" друзьям в соцсетях.