— Энтони, должно быть, испытывает то же самое.
— В общих чертах — да, насколько я знаю. Но он твердо убежден в том, что как профессионал не должен ориентироваться на личные убеждения.
— Я ему не завидую. Потому-то мы и обзаводимся судьями, чтобы ничего не решать самим.
В это время в дверь постучали, и вошла секретарша Хогэна.
— Простите, мистер Хогэн, — сказала она, — но у меня срочный звонок, просят миссис Мэтленд.
Джон и Бритт обменялись взглядами. У Бритт внутри что-то упало. Первая мысль: беда с Энтони! Она подумала о том, что в последнее время иногда приходило ей на ум: ее муж в том возрасте, когда смерть — не редкость, хотя он и обладает отменным здоровьем и прошедшие годы для него, казалось, имели меньшее значение, чем для нее. Но ему уже около шестидесяти…
— Кто звонит? — тревожно спросила она.
— Мистер Мэтленд. Вы будете говорить?
Бритт почувствовала облегчение и взяла трубку, протянутую ей Хогэном.
— Бритт?
— Энтони, ради Бога, что случилось?
— Прости, что побеспокоил тебя, дорогая, но боюсь, что другого выхода не было. У Харрисона сердечный приступ.
— О Боже!
— Мы еще не знаем, насколько это серьезно, но сейчас ему немного легче. Эвелин звонила минут пятнадцать назад из больницы Джорджа Вашингтона. Кажется, это случилось с ним во время утренней пробежки.
— Ох, но…
— Послушай, Бритт, мы не должны сейчас впадать в панику, — сказал он спокойным и уверенным голосом.
— Хорошо, Энтони, что будем делать?
— Я сейчас еду в больницу. Шеф предложил подвезти меня на своем лимузине, чтобы мне не тратить там времени на поиски места парковки; если хочешь, я заеду за тобой.
— Нет, лучше сразу поезжай туда. А я возьму такси, мне тоже не хочется возиться с парковкой. Думаю, буду там раньше тебя.
— О'кей, дорогая. Извинись за меня перед Джоном, что я забираю тебя.
— А ты не особенно расстраивайся, Энтони. И помни, я люблю тебя.
— Ох, Бритт, сердечко мое дорогое!
Она передала трубку Джону, и тот вернул ее на место.
— Неприятности? — спросил адвокат с видом трагической озабоченности.
— Да, у Харрисона сердечный приступ. Они еще не знают, насколько это серьезно.
— Слава Богу, что не у Энтони.
Было странно услышать подобное замечание из уст столь опытного, сдержанного на слова юриста, как Джон Хогэн, однако он это сказал, что само по себе весьма красноречиво говорило о человеческих пристрастиях.
— Да, — отозвалась она. — Слава тебе, Господи!
Эвелин Мэтленд сидела в больничной часовне, в ее серо-голубых глазах стояли слезы. Она говорила себе, что сейчас не время расслабляться. Харрисон нуждается в ней больше, чем всегда. Она вздохнула. С того дня, как прозвучали ее слова «я согласна», она не без гордости полагала себя хорошей женой, хотя подчас приходилось нелегко. Да, она знала, что бывает порой эгоистична, но у женщин свои привилегии.
Сейчас, конечно, нет ничего важнее здоровья Харрисона. В последние же месяцы более всего ее беспокоил их брак. Он отрицал, что с этим обстоит неважно, но она чувствовала, что его притягивает нечто вне дома. Л когда они были вместе, то он казался отсутствующим. Эвелин старалась не подавать виду, но чувствовала: появилось нечто, серьезно угрожающее их браку. Тысячу раз она повторяла себе, что если у него и бывают другие женщины, то это быстро проходит. И все же подозревала, что на этот раз происходит нечто совсем отличное…
Несколько месяцев назад она уговорила его отметить двадцатипятилетие их супружества на Бермудах, надеясь, что такая поездка сможет изменить их отношения к лучшему. Он согласился, но сердцем не участвовал во всей этой затее.
«Мид Оушн клаб» предоставил в их распоряжение апартаменты с окнами и балконом в сторону океана. В первую ночь они отправились спать рано и лежали в постели бок о бок, слушая шум прибоя и дыша свежим океанским воздухом. Харрисон, как обычно, лег в трусах, а она облачилась в дымчато-прозрачную ночную рубашку, надеясь возбудить его. На что, впрочем, он никак не прореагировал, хотя бывали времена, когда это действовало безотказно.
Когда Эвелин поняла, что он не хочет даже соприкоснуться с ней, то решила сама приблизиться, положив ладонь на его волосатую грудь. Она всегда находила привлекательным крепкое тело Харрисона. Когда-то он был для нее пылким, в рамках благопристойности, конечно, любовником. Но поскольку плотская страсть не являлась основой их отношений, то довольно скоро увяла. Секс превратился в некую обязанность, исполняемую Харрисоном от случая к случаю.
Той ночью на Бермудах Эвелин показалось, что они в своем браке достигли критической точки, и она почему-то подумала, что если не сумеет привлечь сегодня мужа, то потеряет его навсегда. Так и вышло, что она решила идти до конца и сделать все возможное, чтобы соблазнить его.
Харрисон лежал неподвижно, и она, тихо вздыхая, поглаживала его грудь. Но он, казалось, находится где-то в другом месте, его тело не отзывалось на ласку, и, видя это, она стала действовать более решительно, чем обычно. Рука ее двинулась вниз и там, дойдя до резинки трусов, замерла. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на жену.
— Я знаю, я теперь не очень привлекательна, — прошептала она, — но я люблю тебя, Харрисон.
Он вздохнул так, будто сказанное ею слишком огорчительно для него, слишком затрудняет жизнь. Но это, увы, не остановило ее. Рука ее продвинулась дальше, скользнув под резинку трусов и начала полегоньку поглаживать и массировать его расслабленную плоть, ничуть, однако, не преуспев в ее взбадривании. Видя бесплодность своих усилий, она отчаянно решилась на нечто необычное, о чем знала лишь понаслышке и в чем не имела никакого опыта и не видела никакого смысла. Она приподнялась, стянула с него трусы и положила голову ему на бедро. Начала она с поцелуя, и это наконец помогло.
Вспоминать дальнейшее ей до сих пор тяжело. При нескольких попытках осуществить таким образом полный половой акт у нее ничего не вышло. Она задыхалась, у нее появлялось рвотное движение, и раза два, когда он приближался к оргазму, она отшатывалась, пока наконец он сам не отвернулся от нее, решив, видимо, прервать неудачный спектакль. Все это время он молчал. А теперь, когда она сказала:
— Харрисон, прости, но я больше не могла…
Он, не оборачиваясь, ответил:
— Разве я просил тебя делать так? Я вообще не понимаю, что с тобой происходит.
Слезы застлали ее взор.
— Я хотела, чтобы тебе было хорошо.
— Делай только то, что ты можешь довести до конца, и мне будет хорошо.
— Ну, не сердись на меня, Харрисон. Может, мы поступим как обычно?..
— Прости, но у меня не то настроение.
— Не надо так со мной! — воскликнула она. — Пожалуйста, не надо так, прошу тебя!
Он спустил с кровати ноги, сел спиной к ней.
— Харрисон…
Молча встав, он подошел к окну, отдернул штору и стал смотреть в черноту тропической ночи.
— Харрисон, пожалуйста…
Ни слова в ответ. Эвелин смотрела на него сквозь пелену слез, переживая ужас и стыд полного краха. Потом, когда он, по-прежнему не отвечая ей, отошел к столу, она разрыдалась, упав лицом в подушку.
Наутро она с удивлением поняла, что никакой катастрофы эта ночь не принесла. Со стороны Харрисона, вопреки ее ожиданию, не последовало ни серьезных разговоров о разводе, ни упреков. Он вообще проигнорировал ночной инцидент, предоставив ей самой разбираться со своей выходкой, грызть локти, сожалеть и раскаиваться, если ей так угодно. В конце концов она решила, что надо постараться это забыть и оставаться тем, что ты есть на самом деле. В столь длительном браке, очевидно, и не может быть иначе, и возможно, все это так и должно быть. От нее требуется лишь одно — быть преданной женой, опорой мужу, а все остальное…
Харрисон раз и навсегда очертил круг ее обязанностей. Ее функции определялись его потребностями. Через нее он призывал всех нужных ему советников и консультантов. Ее незаметное присутствие обеспечивало стабильность его быта и деятельности. Это была роль, которую он навязал ей, а она с удовольствием приняла на себя, но все же какая-то ее часть страдала.
Если Эвелин и имела отношение к политике, то только потому, что и отец ее, и муж были политиками. Она прекрасно знала изнанку политической жизни. Знала много такого, что не доходило до ушей простых смертных. Часто она, посмеиваясь, называла свое превращение в идеальную для политика жену политическим императивом брачного обета.
Если Вашингтон видел в Эвелин дисциплинированного храброго солдата, то он видел только амуницию. Она хорошо играла свою роль, это правда. Но Харрисон никогда не давал ей возможности проявить себя как личность, совершить нечто большее, чем ей предписано, а Эвелин — к стыду своему — и не стремилась проявить инициативу. Если раскопать погребенное под фасадом ее счастливой наружности, то она, возможно, пришла бы к пониманию, что отчасти виновата и сама…
Подняв глаза на распятие, она осознала, что хоть и молилась в последние пятнадцать минут, но молилась скорее политическим идолам и кумирам, а не Всевышнему. Да это и не важно. Она пришла сюда, в часовню, не столько для того, чтобы помолиться, сколько для того, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Марк Филдмэн заверил ее, что Харрисон теперь в относительной безопасности. Если не случится ничего непредвиденного.
Полчаса назад, когда ее допустили к нему в палату, она подержала его лицо в своих ладонях и поцеловала, стараясь не замечать всех этих трубок и проводов, соединяющих его с внушительным строем медицинских аппаратов.
— Спасибо, — прошептал он, увидев ее, и глаза его увлажнились от чувства благодарности. Но уже вторая и третья его фраза выражали то, что у него на уме. — Как можно скорее вызови сюда Томми Бишопа. Мы должны ухитриться все подать очень осторожно. Он и сам знает, что сказать газетчикам, но все же пусть обязательно ко мне зайдет. И, ради Бога, попроси Марка никому не говорить ни слова. Никаких заявлений. Никаких медицинских терминов. Ничего. И вот еще что, спроси его, не сможем ли мы оформить эту штуку как незначительный эпизод, ну, чтобы это звучало не страшнее того, что, мол, перетрудил себе задницу, сидя за рабочим столом, одним словом, что я не особенно и болен-то. Так, малость подустал…

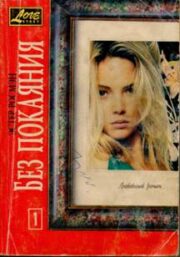
"Без покаяния. Книга первая" отзывы
Отзывы читателей о книге "Без покаяния. Книга первая". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Без покаяния. Книга первая" друзьям в соцсетях.