Роберт, очнувшись от гипноза, смотрел на нее не как на живую женщину, а как на некую совокупность геометрических фигур, искусно подогнанных по размеру.
– Разве она не богиня?
Его сознание еще не вырвалось из сумрака, тишина в зале давила на него, словно толща темной воды на погрузившегося в бездну водолаза. Он никак не мог отыскать подходящие слова, чтобы ответить дочери, и язык его бессильно застрял в пересохшем рту.
Однако разумная мысль все-таки прорвалась сквозь пелену и вспыхнула в его мозгу. Каролин Киркегард нельзя так просто послать к чертям собачьим. Как бы это ни было смехотворно, но она личность неординарная. Хотя бы своими великанскими размерами. Она не просто женщина из плоти и крови. Она существо, созданное кем-то для того, чтобы наказать нас за наши грехи. И мужчин, и женщин, и детей – она всех ненавидит. Она бесполое создание, способное изъясняться, словно бы на эсперанто, со всеми, без различия наций, полов и возрастов. И воздействует на всех своей ужасающей сексуальностью.
– Пап, не отвлекайся. Смотри на кристаллы, – потребовала Кристина.
Кристаллы на колоннах, обозначающих треугольник, в центре которого восседала Каролин, вдруг ожили. Они начали покачиваться, и вслед за ними пришла в движение вся толпа в зале, повторяя движения проклятых камней.
Но это наваждение, к счастью, продолжалось недолго. Лучи прожекторов переместились с кристаллов, и те сразу погасли, посерели, а сосредоточились на лице Киркегард.
Кристина охнула и подалась вперед. Ее движение повторили и все присутствующие. Голова Киркегард засветилась подобно кристаллу. Волшебный свет погас беззвучно, зато ярко вспыхнула под потолком знаменитая хрустальная люстра.
Каролин Киркегард смежила веки, глубоко задышала носом, ее торс, втягивая воздух, задвигался, как кузнечный мех, раздуваемый над горном. Шум, производимый ее мощным дыханием, пронесся над затихшим в оцепенении залом, и все ощутили, как их коснулось дуновение ветра.
Она встала, выпрямилась, распростерла руки и взяла по кристаллу, расположив их на ладонях. Хотя они и были тяжелы, никакого напряжения мышц в ее вытянутых руках не наблюдалось. Она доказывала этим, что силы ее неизмеримы.
– Она черпает энергию из кристаллов и передает ее нам, – объяснила шепотом Кристина. – Ты это чувствуешь?
Роберт хотел бы ответить ей, что чувствует лишь желание набить морду наглой шарлатанке, но язык почему-то не повиновался ему. Может быть, на него так подействовало электромагнитное поле охваченной нелепым восторгом толпы. Оно сковывало его, парализовало и тело, и мозг.
Он едва не взвился до потолка, когда внезапно ударила изо всех динамиков громкая, абсолютно диссонансная, режущая слух скрежещущими звуками музыка, – если только этот адский звуковой коктейль можно было назвать музыкой.
– Боже! А это еще зачем?
– Оно не созвучно тебе, но наши чувства настроены по-другому.
– Но тут нет ничего похожего на музыку, – запротестовал Роберт.
– Это и не музыка. Это Оно.
– Что «Оно»?
– То, что мы не можем услышать.
– Я все могу услышать. И все могу оценить.
– Нет, не все. Это музыка шаманов, общающихся с духами…
Властный голос Киркегард прервал ее пояснение.
– Соедините руки в единую цепь, – обратилась она к публике.
Голос ее хлестал по ушам тех, кто его слышит, как пастуший кнут. Никто не посмел воспротивиться, даже Роберт Хартфорд. Он только благодарил бога, что сидит подальше от этой стервы, в задних рядах, но все равно послушно вложил правую руку во влажную от возбуждения ладонь дочери, а пальцам левой позволил коснуться руки соседа.
Каролин убедилась, что ее приказу подчинились все, и праздновала победу. Она ощутила приятную дрожь. Власть над людьми доставляла ей наслаждение, и постепенно, с годами, другие радости жизни ее уже не прельщали.
Эти люди желали убежать от действительности, где сиюминутно надо принимать решения, в мир, где они могли бы беспечно танцевать под дудку того, кто за них думает и решает. Простой, нет, даже простенький мир, к которому стремится каждое человеческое существо, привыкшее к покою и сытному существованию в утробе матери и зачем-то выброшенное на жестокий свет божий при рождении. Все их проблемы решатся сами собой, растают, улетучатся, если они доверят право распоряжаться собой несокрушимой воле Каролин.
Держаться за руки с соседями – справа и слева – оказалось, как это ни странно, весьма благотворным средством для поднятия настроения – вроде первой понюшки кокаина после многодневного воздержания. От плоти каждого человека исходили токи, они перемешивались с твоими, и общий, крепко заваренный «бульон» был целительным.
Каролина распрямилась, и ее величественный рост буквально подавил публику. Зрителям первых рядов пришлось задирать головы, чтобы видеть ее лицо.
– Кто я? – прошелестел голос над головами. – Я та, кто я есть?
– Ты та, кто ты есть! – на едином дыхании откликнулась аудитория, превратившаяся из нормальных людей в собрание кретинов.
– И буду такой, какая я есть!
– Ты будешь такой, какая ты есть!
– Что за словесный понос? – возмутился Роберт. – Абракадабра.
Он, щадя дочь, воздержался от более крепких выражений, но, хотя он говорил достаточно громко, Кристина его не слышала. Она улыбалась чему-то непонятному, что творилось в ее душе. Возникали в воображении какие-то неясные образы и тут же исчезали, уступая место другим.
Она, оказывается, как все присутствующие, уже прожила множество жизней, и каждая предшествующая жизнь наложила отпечаток на их сегодняшнее существование и может обогатить их неисчерпаемыми сокровищами тысячелетнего опыта. Прошлое, настоящее и будущее – все заключается в личности индивидуума, и он, уверовав в это, уже начинает ощущать себя не смертным ничтожеством, а участником великого процесса истории.
– Я останусь той, какая я есть! – заявила Каролин, и хор послушно вторил ей. И Кристина тоже.
Роберт уже по-настоящему рассердился. Эта ведьма несет вздор, которым до нее забивали уши доверчивых простаков тысячи шарлатанов-проповедников с той поры, когда это стало прибыльным бизнесом. И опять дураки попадают в ту же ловушку. Стоит только поглядеть на лица его обалделых соседей по ряду и на личико Кристины – просто жуть берет. Он не верил собственным глазам. Его дочь, милая, умная Кристина!
Ее черты как бы размылись, потеряли человеческое выражение. Лицо стало похоже на гладкий обмылок дешевого мыла, к которому уже неприятно прикоснуться. Вот что делает стерва Киркегард с элитой Беверли-Хиллз, а уж как эта гадина разгуляется, если ее выпустить в массы безграмотных, суеверных бедняков.
– И будущее, и прошлое – все едино, и все во мне, – таинственным шепотом, однако слышимым на весь зал, возвестила Каролин.
Роберт поднялся с места. Он уже вдоволь наслушался этой чепухи, с него хватит. Он не удосужился даже сказать Кристине, что уходит, и попрощаться. Дочь его пребывала в трансе, душа ее витала в высших сферах, и обращаться к ней было бесполезно.
Роберт постарался произвести как можно больше шума, протискиваясь меж тесных рядов, заполненных «зомби», и спотыкаясь о вытянутые ноги.
Каролин углядела со сцены, что некая личность, не поддавшаяся гипнозу, покидает зал. Этот растиражированный киноэкраном профиль был ей, конечно же, знаком. Но это не лишило ее апломба. Даже наоборот. Всегда, в любой аудитории обнаруживаются скептики.
Зато зрелище массы обращенных к ней лиц, исполненных благоговения, впрыснуло в нее дополнительную порцию энергии. Какое это наслаждение – властвовать над людьми. Они уже лишились собственной воли, веры, знаний, – они уже обрекли себя на рабское служение своей повелительнице Каролин Киркегард.
– Поднимите руки над головой, – приказала она, и тысяча рук взметнулась вверх. – Мы все братья и сестры и принадлежим Вечности.
Роберт старался не слушать эту белиберду, которая назойливо лезла в уши, пока выбирался на свободное пространство. Он привык, что сотни любопытных глаз следят за ним, когда он появляется в общественных местах, и стоически нес это тяжкое, но в чем-то и приятное бремя суперзвезды. Но сейчас публика была так поглощена лицезрением Каролин, что его просто не замечали. Он испытал чувство обиды и укол глупой ревности. Харизма Киркегард вмиг лишила его заслуженного великими трудами статуса.
Впрочем, у выхода стоял человек, который смотрел только на него, а не на эту шарлатанку. Причем Роберту показалось, что он где-то видел его прежде. Когда их взгляды встретились, это сразу вызвало у него раздражение, что отразилось и на лице. Но человек не смутился. Наоборот, он ответил Роберту сочувственной улыбкой, давая понять, что догадывается, по какой причине тот покидает зал, что затронуто его эго, и поэтому знаменитый киноактер сейчас пребывает не в лучшем расположении духа.
Роберт уловил в этом взгляде, устремленном на него, легкую насмешку и мгновенно напустил на себя каменно-неприступный вид, минуя эту полузнакомую ему личность, не удостоив ее и кивком. Черт с ним, кто бы он ни был!
Но человек, которого Роберт Хартфорд с такой нарочитой небрежностью оставил у себя за спиной, совсем не огорчился тем, что киноактер не признал в нем давнего знакомого. Прислонившись к обитой темным дубом стене холла, он, чуть поворачивая голову, мог почти одновременно наблюдать за тем, что творится в банкетном зале «Сансет-отеля», и любоваться романтическим пейзажем, открывающимся за прозрачной стеклянной стеной, которая отделяла «Сансет-отель» от неумолчного Тихого океана и суетного мира.
Внешне он вполне соответствовал той публике, какая допускается в холл без унизительного допроса. Костюм на нем был темно-синим и отлично сшитым, голубая рубашка и в тон ей безукоризненно завязанный дорогой галстук – стандартный облик делового джентльмена, готового выступить хоть по телевидению, хоть на заседании директоров компании. И выражение лица было под стать одежде – решительное и агрессивное, когда улыбка растаяла, сменившись язвительной гримасой.

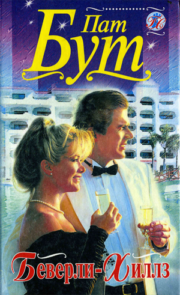
"Беверли-Хиллз" отзывы
Отзывы читателей о книге "Беверли-Хиллз". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Беверли-Хиллз" друзьям в соцсетях.