— Ты помнишь, как у твоей мамы было?
— Конечно, — Галка тяжело опустилась рядом с Лерой, — конечно, помню.
— У меня те же симптомы.
— Голова болит, кружится и в глазах темнеет?
— Да, — прошептала Лера, давясь слезами. Галка прижала к себе подругу, и обе заплакали.
— Девочка моя, надо бороться. — Галина была слишком деятельным человеком, чтобы горевать.
— Хорошо. — Лере сейчас, как никогда, нужен был оптимизм подруги.
— У меня остались телефоны маминого врача-онколога. Профессор Батурин — прекрасный человек. Я договорюсь, он тебя возьмет к себе в отделение.
— Хорошо, — размазывая слезы по щекам, потрясла головой Лера.
— Ты еще не написала заявление на увольнение?
— Нет.
— Вот и отлично. И замечательно. Пусть Дворник оплачивает хотя бы больничные тебе.
— Ага, — поддакнула Лера. Мысли ее были далеко, с Крутовым.
Господи, что тебе стоит? Четыре года. Только четыре года — и она будет готова.
На заседании коллегии администрации присутствовало только физическое тело Крутова. Душа и мысли оставались на втором уровне скромного холостяцкого жилища, где беспокойно металась на подушках и сбивала простыни любимая женщина.
Игнатьевна сейчас, наверное, печет тонкие блинчики, мечтательно думал Василий, и взгляд его окончательно замаслился. Хотя блинчики находились под строжайшим запретом, как пагубно влияющие на работу пищеварения и вообще, Игнатьевна с завидным постоянством нарушала запрет.
Отвлекая от благостных мыслей, Крашенинников сопел в соседнем кресле, в которое с трудом втиснулся, шуршал бумажками, вертелся и толкался локтем.
— Перерыв до четырнадцати тридцати, — объявил почтенному собранию секретарь.
— Давай скорей, все разметут сейчас, останется один салат оливье, — шепнул Борисович, стартуя из кресла.
Действительно. Сильные мира сего ходко потрусили в буфет, мало чем отличаясь от оголодавших великовозрастных оболтусов в летнем лагере: похоже, в детстве вместо БЦЖ им привили привычку работать локтями.
Борисович, пыхтя, теснил конкурентов пузом.
Погруженный в воспоминания, от которых ускорялся пульс, Крутов сложил в кейс пресс-релиз, увесистую пачку сопутствующей макулатуры и блокнот, в котором накалякал несколько рожиц. Если он и испытывал голод, то совершенно другого рода.
По счастью, предсказание Борисовича не сбылось.
Выбрав мясо по-французски и зеленый салат, который Борисович тут же обозвал «силосом», Крутов устроился за столом и вяло ковырялся вилкой в тарелке.
Зато Крашенинников не страдал отсутствием аппетита. Василий только хмыкнул, насчитав семь блюд.
— Отвянь, — в ответ на ухмылку приятеля цыкнул Борисович, — скажи-ка лучше, что это у тебя глаз так блестит? Лямур-тужур?
— Тужур, тужур, — не удержался от улыбки Василий.
— Тебе вообще есть не обязательно, ты сыт любовью.
— Завидуешь?
— Завидую, — не стал лукавить basso profondo.
— Влюбись, кто тебе не дает?
— Не всем же так везет.
— Это правда. — Мечтательный взгляд Крутова переместился за окно с вертикальными жалюзи приятного кремового оттенка. — Чаще случаются неожиданные вещи, чем ожидаемые. Кто это сказал? Плавт?
— Что делается, — хмыкнул Борисович. — И чего это тебя так прет? Баба как баба, интересно, что ты в ней нашел?
Крутов перестал жевать и по неясной причине насторожился. Неприятное предчувствие зародилось под сердцем, распространилось со скоростью стихии по организму и отдалось легким покалыванием в пальцах.
— Это ты о ком?
Увлеченный телятиной по-веронски, Борисович не обратил внимания на сторожевую стойку Василия:
— Ну, эта чухонка, журналистка Ковалева — что ты в ней нашел?
Стиснув вилку так, что побелели костяшки пальцев, Крутов на всякий случай огляделся: солидняк, неторопливо поедающий свой обед, расторопные девчонки-буфетчицы, редеющая очередь и симпатяги в штатском при входе. Любое поползновение с его стороны будет пресечено мгновенно — вон один уже пропахивает глазами столики. Нет, не здесь. Может, вывести Крашу за угол администрации и там вздуть?
«Успокойся», — велел себе Крутов и разжал кулак, в котором осталась вмятина от вилки. Успокойся.
В это мгновение до Василия окончательно дошел смысл сказанного.
— Борисыч, а откуда ты знаешь про журналистку? — От волнения Крутов даже дал петуха.
— Что с тобой? — Крашенинников с удивлением разглядывал раздувающиеся ноздри приятеля. — Что я такого сказал?
— Ничего, если не считать, что я тебе о Ковалевой ни слова не сказал.
— У меня свои источники. — Борисович перестал жевать, его отечная физиономия окаменела. С такой рожей только потасовки в трактирах устраивать или на лесных дорогах мирных обывателей грабить, подумалось вдруг Крутову.
— Борисыч, откуда ты узнал про нас с Ковалевой?
— Да так, — процедил бизнесмен, не спуская острого взгляда с Крутова, — мы с ней поспорили. Она выиграла.
Василий испытал сиюминутное чувство гордости за Леру.
— О чем спорили?
— На тебя.
— Что?! — Губы Василия тронула недоверчивая улыбка. Мозги отказывались воспринимать услышанное.
— Что слышишь. Наверное, я должен был тебя предупредить, но сам знаешь, как это бывает: дал слово, пришлось молчать. Ты, Вася, в бабах не разбираешься. Она легла с тобой ради акций «Бланк-информ», между прочим. Она бы и со мной легла, если бы не пари.
Крутов и сам не понял, как он вцепился в лацканы льняного пиджака Борисовича и встряхнули так, что profondo, не ожидавший такой стремительной атаки (зря, что ли, Крутов проводил три раза в неделю по два часа в спортзале), выронил нож и вилку.
В те несколько секунд, пока решалась судьба схватки, пальцы Василия сами разжались.
Присутствующие озирались на звон столовых приборов, тревожное дуновение пробежало по небольшому залу. Василий не обращал никакого внимания на секьюрити, замерших в ожидании, на застывших с возмущенно открытыми ртами дамочек из департамента культуры — Василий соображал.
А когда сообразил, перестал дышать, будто ему плеснули в лицо воды: «Она легла с тобой ради акций „Бланк-информ“ — почти то же самое сказал аноним по телефону».
Неужели Борисович?
А что? Протуберанцы в биографии profondo дают волю воображению: из консерватории его поперли за драку — раз, замечен в неблагонадежных связях с криминалом — два.
Или все это невероятное совпадение, или аноним — Борисович.
Идиот, обозвал себя Крутов. Звонил не Крашенинников — такой бас невозможно перепутать, да и не по статусу Борисовичу подобными делами заниматься. Поручил своим шестеркам.
— Что за чушь?
— Никакая не чушь. Ковалева поспорила со мной, что с нею ты забудешь свою большую любовь.
Василий совсем запутался:
— Какую любовь?
— Из-за которой ты две недели торчал в Демидовке в коматозном состоянии. — Борисович осклабился. — Седина в голову — бес в ребро, а?
Ошеломленный Крутов расслабил узел галстука и повертел шеей:
— Не может быть.
Борисович с оскорбленной миной вернулся к телятине:
— Спроси у нее, если не веришь.
— На акции? — не мог прийти в себя Василий.
— Представь себе, — продолжал Крашенинников, подвигая следующее блюдо. — Правда, ходят слухи, что «Бланк-информ» банкрот и за долги будет распродан. Так что мне, можно сказать, повезло. Кстати, у меня с самого начала не лежала душа к издательскому бизнесу.
— Поздравляю, — усмехнулся Василий. Все-таки приятно узнать, что развели не только тебя.
Прокравшись мимо тюля из органзы, косой солнечный луч скользнул прямо в изголовье постели и улегся на лицо Валерии.
Потревоженная, Лера открыла один глаз, обшарила подслеповатым взглядом комнату и вспомнила: она у Крутова.
И все остальное — шепот, стоны и всхлипы, упоение от обладания и восторг соития — тоже вспомнила. Воспоминания были такими острыми, что Лера моментально зажглась.
И все это — ей, жалкой нищенке, сидящей на паперти и выпрашивающей подаяние:
«Ну, отмеряй мне еще немного, Господи, ну, по терпи».
Молитвы срывались с губ сами собой. Но чаще это были претензии и обиды.
Обиды чередовались со страхом неизвестности и благодарностью к той самой жизни, которая взяла ее за горло, но позволила напоследок насладиться любовью к мужчине.
Осторожно, стараясь не потревожить то страшное, что засело у нее в мозгах, Лера приподнялась на локте. На ней была футболка Василия, едва прикрывавшая попку, и стринги.
Снизу доносились слабые звуки, похожие на постукивание кастрюль. Домработница Игнатьевна, догадалась Лера. Вот елки-палки.
Игнатьевну Лера по непонятной причине жутко стеснялась и встречи с ней предпочла бы избежать.
Сколько же времени? Напольные часы стояли именно там, где поставила бы их Лера, если бы у нее была своя квартира.
Вечно у них с мужем возникали разногласия по поводу обстановки. Казимир презирал сдержанную респектабельность классики, тяготел к хайтеку и модерну и ругал Леру за то, что она несовременная, неотесанная. Клуша…
А в доме Крутова Леру посетило чувство, будто она здесь провела детство. Выросла и уехала, потом вернулась и испытывает радость узнавания вещей и предметов. Немного отвыкла и привыкает снова. Так случается.
Так сколько же времени? Неужели десять? Лера прикрыла козырьком ладони глаза. Точно, десять. Ничего себе!
Со страхом и надеждой прислушиваясь к себе, выскользнула из-под одеяла и несколько секунд постояла на ковре, ощущая приятное шерстяное покалывание босыми ступнями.
Та-ак. Никакой надежды, один страх — комната поплыла перед глазами, полы закачались, мелькнула люстра, и Леру накрыла ночь.

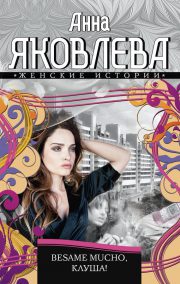
"Besame mucho, клуша!" отзывы
Отзывы читателей о книге "Besame mucho, клуша!". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Besame mucho, клуша!" друзьям в соцсетях.