— Конечно, это забавно. Но я видела только одну ворону, а это к печали.
— А когда увидишь четыре?
— Ты бы послушал, что говорила нам старая миссис Вагстафф, — возразила она. — Она заявила, что перед тем как Джерри утонул, какая-то ворона целую неделю каркала на яблоне.
— Бедная женщина, — заметил я.
— О, она так плакала. Сначала я хотела заплакать тоже, но потом почему-то рассмеялась. Она полагала, что он непременно отправился на небеса… но… как я устала от этого слова «но»… вечно одни мысли путаются с другими.
— Но только не у Джерри, — вставил я.
— О, она подняла голову, и слезы капали с ее носа. Он, должно быть, очень досаждал ей. Не могу понять, почему женщины выходят за таких мужчин. Думаю, нужно радоваться, если пьяный негодяй наконец утонул в канаве.
Она положила край толстой портьеры на подоконник вместо подушечки и уютненько уселась на него. Мокрый промозглый ветер тряс полуголые деревья, листья опадали и тихо угасали на земле, потемнели даже стволы. Дождь лил не переставая.
По небу, подобно черным кленовым листьям, пронеслись еще две вороны. Они опустились на деревья перед домом. Летти смотрела на них с удивлением и меланхолией. Тут обнаружилось, что еще одна птица летит к нам. Она сражалась с ветром, пытаясь подняться выше, но вместо этого опускалась вниз.
— Вот твои четыре вороны, — сказал я.
Она не ответила, но продолжала пристально смотреть в окно. Птица героически сражалась. Ветер толкал ее в бок, трепал перья, хватал за крылья, швырял вниз. Птица упорно продолжала свой полет, теперь уж низко, словно в отчаянии. Мне было жаль ее. Двое ее подруг вспорхнули и полетели к ней, совсем как души, охотящиеся за телом, в которое они хотели бы вселиться. Только та первая ворона осталась на дереве, похожая на серый скелет.
— Лесли бы не мог сказать «никогда», — заметил я вскользь.
— Он понимает. — Она посмотрела печально, потом продолжила: — Лучше сказать «никогда», чем «когда-нибудь».
— Почему? — спросил я.
— О, я не знаю. «Когда-нибудь» звучит так нелепо.
В душе она была уверена, что Лесли придет… но теперь вдруг начала сомневаться: …все слишком усложнялось.
На кухне зазвенел колокольчик. Она спрыгнула с подоконника. Я пошел открывать дверь. На пороге стоял Лесли. Она радостно посмотрела на него, и он это заметил.
— К Елене пришло много народу. Я поступил ужасно грубо, покинув их, — сказал он тихо.
— Какая скверная погода! — сказала мама.
— О, ужасная! У тебя такое красное лицо, Летти! Что ты там делаешь?
— Смотрю на огонь в камине.
— И что же ты видишь?
— Картины, которые на глазах превращаются в ничто.
Он засмеялся. Мы помолчали немного.
— Ты меня ждала? — промурлыкал он, обращаясь к сестре.
— Да… я знала, что ты придешь.
Они остались одни. Он подошел к ней и обнял ее, а она стояла, облокотившись на камин.
— Я тебе нужен, — сказал он мягко.
— Да, — промурлыкала она.
Он обнимал ее, целовал снова и снова, пока она не стала задыхаться, не вскинула руку и нежно не отстранила свое лицо.
— Ты моя холодная маленькая возлюбленная, застенчивая крохотная птичка, — сказал он со смехом и заметил, как ей на глаза наворачиваются слезы, повисая на ресницах, но не падают.
— Ты что, моя любовь, моя дорогая… ты что? — Он прижал свое лицо к ее лицу, приняв слезу на свою щеку:
— Я знаю, ты любишь меня, — произнес он с чувством. Ты знаешь, — проворковал он, — внутри у меня закипают слезы, подступая к сердцу. У меня перехватило горло. Мне очень больно, моя любовь. Ты… ты можешь сделать со мной все.
Они какое-то время помолчали. Затем она поднялась наверх к маме… и спустя несколько минут я услышал, как мама спускается к нему.
Я сидел у окна и следил за проплывающими тучами. Мне казалось, все вокруг меня плачет… казалось, я теряю, навеки утрачиваю себя, отдаляюсь от осязаемой повседневной жизни. Где-то далеко в неведомых просторах существуют ветер, облака, дождь, птицы, листья — все это кружится, летит… почему?
Все это время старая ворона по-прежнему сидела неподвижно, хотя облака неслись, рвались и сталкивались, хотя деревья гнулись, а оконная рама дрожала от потоков воды. Потом я решил, что она просто-напросто привыкла, приспособилась к дождю. Слабенький желтый диск солнца освещал большие листья вяза, который рос совсем рядом, рукой подать, и они казались спелыми лимонами. Ворона смотрела на меня… я был уверен, что она смотрит именно на меня.
— Что ты думаешь обо всем этом? — спросил я ее безмолвно.
Она посмотрела на меня с сомнением. Будь я огромной бескрылой птицей — и то, пожалуй, представлял бы для нее интерес, а тут какой-то ужасный урод. Я был уверен, что неприятен, ненавистен ей.
— Но, — сказал я себе, — если черный ворон мог ответить человеку, почему не можешь ты, серая ворона?
Она посмотрела в сторону. Мой взгляд явно раздражал ее. Испытывая неудобство, она снова повернулась ко мне, потом приподнялась, расправила крылья, как бы для полета, потом снова застыла среди ветвей.
— Ты нехорошо себя ведешь, — не отставал я. — Не желаешь помочь мне даже словом.
Она сидела с откровенным безразличием ко всему. Потом я услышал карканье на лугу, хлопанье крыльев. Казалось, птицы искали бури. Они кружили на ветру. Они упивались борьбой и в то же время горестно жаловались на жизнь дикими криками. Все они кричали, кричали одно и то же: «Драка, драка, драка…» Драка сама по себе — глупая затея. Вот они и носились в воздухе на своих широких крыльях, без цели, зато весело и задорно.
— Видишь, — сказал я вороне, — они стараются, радуются жизни, хотя понимают, что в драке нет никакого смысла, но им не сидится спокойно на одном месте, они живые, а ты просто труп.
Этих слов она уже не смогла вынести. Ворона расправила крылья и взмыла вверх, крикнув на прощанье только одно слово: «Карр».
Я обнаружил, что мне стало холодно. Поэтому спустился вниз.
Лесли накручивал на палец один из тех локонов сестры, которые вечно выскакивают из прически и не терпят, чтобы их брали в плен.
— Посмотри, как я нравлюсь твоему локону, как он ласково обвивает мой палец. Знаешь, твои волосы… они так светятся… о… совсем как лютики на солнце.
— Они, как и я… не хотят быть скрученными в узел, — ответила она.
— Стыдно произносить такие слова… смотри, он гладит мне лицо… и в моей душе играет музыка.
— Тихо! Веди себя прилично, а то я скажу тебе сейчас, что за музыку исполняет твоя душа.
— О… ну, ладно… скажи мне.
— Она похожа на призывные крики дроздов по вечерам, пугающие мои маленькие древесные анемоны, отчего они бегут, жмутся к стене нашего дома. Она похожа на звон голубых колокольчиков, когда в них сидят пчелы. И она напоминает смех Гиппоменеса.
Он с обожанием посмотрел на нее и тут же поцеловал.
— Брачная музыка, сэр, — добавила она.
— Что за золотые яблоки я разбросал? — спросил он.
— Неужели золотые? — воскликнула она насмешливо.
— Эта Атланта, — ответил он, глядя на нее с любовью, — эта Атланта… вечно она нарочно опаздывает.
— Ну вот, — воскликнула она, смеясь и подчиняясь его ласке. — Узнаю тебя… Это яблоки твоих твердых пяток… яблоки твоих глаз… яблоки, надкушенные Евой… ужасно!
— Господи… ты умница… ты чудо. А я завоевал, завоевал спелые яблочки твоих щечек, твоей груди, твоих кулачков… они меня не остановят… и… все твои округлости, мягкости и теплости скоро будут моими… я завоевал тебя, Летти.
Она расслабленно кивнула, говоря:
— Да… все это твое… да.
— Наконец-то она признает это… моя радость.
— О!.. но оставь мне мое дыхание. Или ты претендуешь на все — на все?
— Да, и ты дала мне это право.
— Еще нет. Значит, все-все во мне твое?
— Каждый атом.
— А… теперь посмотри…
— Посмотреть по сторонам?
— Нет, внутренним взором. Допустим, мы два ангела…
— О, дорогая… мой нежный ангел!
— Ну… а теперь не перебивай… допустим, я одна из них… совсем как «Благословенная девица».
— С теплой грудью!..
— Не дури, итак… я «Благословенная девица», а ты пинаешь ногами сухие листья, опавшие с бука, и думаешь…
— К чему ты ведешь?
— А ты способен думать… мыслями, похожими на молитвы?
— Ради Бога, зачем ты заговорила об этом? О… думаю, я был бы проклят, не сумей я молиться, а?
— Нет… но я жду, давай произноси молитвы… пускай твоя тонкая душа воспарит…
— Оставь эти тонкие души в покое, Летти! Я человек отнюдь не духовного склада. И не тяготею к элите. Ты тоже не с картин Берн-Джонсесса… а с полотен Альберта Моора. Я думаю больше о прикосновении к твоему теплому телу, чем о молитвах. Я молюсь поцелуям.
— А когда надоест?
— Тогда я снова стану ждать, чтобы наступил час молитвы. Господи, я предпочел бы держать тебя в своих объятьях и касаться твоих красных губок… Слышишь, жадина?.. чем распевать гимны с тобой на небесах.
— Боюсь, мы никогда не будем петь гимны с тобой на небесах.
— Ну… зато ты моя здесь… да, ты моя сейчас.
— Наша жизнь мимолетна, как закат солнца, лгунишка!
— Ах, вот как ты меня назвала! Нет, серьезно, я ни о чем не хочу думать. Carpe diem[13], мой розовый бутончик, моя лань. Моя любовь, о которой поет Кармен: «У любви, как у пташки, крылья, ее нельзя никак поймать». Бедный старина Гораций… я его совсем забыл.
— Ну вот, бедный старина Гораций!
— Ха! Ха!.. Зато я не буду забывать о тебе. Почему ты так странно смотришь?
— Как?
— He-а… лучше ты мне скажи. До чего же ты любишь мучить, дразнить, никогда не знаешь, что скрывается в глубине твоей души.

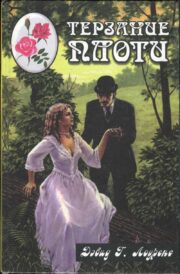
"Белый павлин. Терзание плоти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Белый павлин. Терзание плоти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Белый павлин. Терзание плоти" друзьям в соцсетях.