– Как тебя зовут? – спросила Настя. – Из каких ты? Почему одна?
– Я – Данка… – запинаясь, ответила девчонка. – Таборная. От своих отбилась в Костроме, теперь вот догоняю.
– Чей табор?
– Ивана… – цыганка снова запнулась. – Кашуко [53]. Мы смоленские.
– Кто у тебя там?
– Мужа семья. Умер он.
Разговор шел по-цыгански, и приказчики заскучали.
– Эй, Кузьма! – вмешался Яким. – Ежели вы родственницу сыскали, так, может, мы вас на сухое место отвезем?
– Да, пожалуйста! – встрепенулась Настя. И вновь повернулась к девчонке: – Слушай, ты есть хочешь? Идем в трактир! Посидим, поговорим спокойно. Мы хоровые, с Грузин, Васильевых-цыган. И не бойся, нас вся Москва знает.
Девчонка, казалось, колебалась. Осторожно скосила глаза на свою потрепанную юбку. Настя заметила этот взгляд:
– В трактир пустят, не беспокойся.
– Спасибо… – совсем растерявшись, прошептала девчонка.
– Яким, она с нами едет! – скомандовала Настя.
Через минуту Данка, неловко балансируя, стояла на плоту.
– Держись за меня, – предложил Кузьма, но голос отчего-то сорвался на шепот, и Данка даже не услышала его слов. Зато услышала Настя и пристально, с удивлением посмотрела на Кузьму. Тот, нахмурившись, отвернулся.
Настя выбрала небольшой трактир на Ордынке. Внутри было тепло и чисто, стояли дубовые столы без скатертей, под потолком висели клетки со щеглами, солнечные лучи плясали на меди самоваров. Пахло мятой и донником, с кухни доносился аромат грибных пирогов. За стойкой буфета сидел и изучал «Московский листок» благообразный старичок в очках. Бесшумно носились половые.
Цыгане заняли дальний столик у окошка, выходящего в переулок. Настя спросила чаю и бубликов для себя и Малашки, а для Данки принесли огромную миску дымящихся щей. Кузьма же заявил, что ничего не хочет.
Жадно хлебая щи и откусывая от огромной, посыпанной крупной солью краюхи, Данка рассказывала. Сама она из смоленских цыган, родители жили в таборе, отец торговал лошадьми, мать гадала. Данке лишь недавно исполнилось пятнадцать лет. Она вышла замуж этой зимой, а через неделю после свадьбы схоронила мужа. Кочевала с мужниной родней, но в Костроме отстала от табора и вот уже третий месяц ищет его, расспрашивая всех встречных цыган. По слухам, табор видели в Москве, но, прибыв в Первопрестольную, Данка так и не нашла своих.
– Все заставы обегала. Цыган полно, а наших нет! С ног сбилась, а время-то идет… – Данка старательно вычищала коркой хлеба дно миски. – Может, они в Ярославле давно, так мне туда надо. Хоть бы к лету догнать…
Ее худое личико раскраснелось, пушистые пряди волос высыпались из-под черного платка. Настя ласково поправила их.
– Такая молодая – и вдова… Что же снова замуж не идешь?
– Да когда же мне? Целыми днями ношусь, как медведь с колодой. Три месяца одна! Чего только не перевидала, дэвлалэ! В Москве целую неделю уже…
– А ночуешь где? У цыган?
– Не… У гаджи одной в Таганке. Мадам Аделиной звать. Добрая, хоть и дура.
– Мадам Аделина? – Настя нахмурилась. – Ты откуда ее знаешь?
– Так… Сказали – она комнаты сдает на ночь, только для девиц, мужиков не пускает. Я пришла, она говорит – живи. И денег, курица такая, не спросила! – Данка пожала плечами. – Я ей на картах погадала, короля марьяжного наобещала и денег кучу! А она мне: «Ты красавица, настоящая красавица, ты можешь иметь капитал…» – дала вот эту шаль и туфли и опять ни копейки не спросила, дура! Только зачем-то сказала обязательно к вечеру вернуться. Вроде к ней кто-то в гости должен быть, и она хочет, чтоб я этому гаджо тоже погадала. А что, я пойду! Богатый, должно быть, может, и возьму чего.
– Не она дура, а ты, – с досадой сказала Настя. – Я эту Аделину хорошо знаю. Эх ты, а цыганка еще! Кто же тебе так запросто и шаль, и туфли даст? Чего ей, думаешь, от тебя нужно?
Данка растерянно заморгала, отложила ложку. Кузьме показалось, что Настя очень уж сурово разговаривает с ней, но вмешаться он не посмел.
– И не думай туда возвращаться! – приказала Настя. – Пойдешь с нами.
– А чего мне у вас? – неожиданно огрызнулась Данка. Глаза ее стали колючими, на скулах дернулись желваки. – Мне к своим надо. Сейчас вот доем и тронусь на Крестовскую, мне сказали – там какие-то цыгане стоят. Доеду с ними до Ростова, а там…
– Да ты не ерепенься, – Настя тронула ее за руку, которую Данка отдернула как ошпаренную, – лучше меня послушай. Зачем тебе в табор? К мужниной родне? До седых волос под телегой пропадать? Дальше будешь по базарам «Валенки» голосить? Гадать?
– Что могу, тем и живу! – огрызнулась Данка. – Между прочим, я лучше всех в таборе пела. А гадать чем плохо? Ты что, милая, сама не цыганка, что брезгаешь?
Настя улыбнулась. Миролюбиво спросила:
– А что ты еще петь умеешь?
Данка исподлобья взглянула на нее. Неохотно сказала:
– Еще знаю горькую.
– Ну спой.
– А разве тут можно?
– А ты потихоньку.
Данка пожала плечами. Почесала грязный подбородок, сунула в рот последний кусок хлеба и, едва проглотив, вполголоса запела:
Очи гибельны, белена-дурман.
Подойди-взгляни, сокол-атаман,
Разведу тоску, разгоню ее,
Водкой-матушкой разолью ее.
Обнимай меня – разве ты без рук?
Мни-терзай меня, окаянный друг.
Доля горькая, сердце бедное,
Губы жадные, ненаедные.
Сильный низкий голос поплыл по трактиру. Краем глаза Кузьма заметил, как один за другим на них оборачиваются люди из-за столиков. Двое мастеровых даже встали и, тихо ступая, подошли ближе. Хозяин за стойкой опустил газету и, подслеповато щурясь, воззрился на цыган. Половые – кто с чайником, кто с подносом, кто с горой тарелок – замирали, оборачиваясь на Данку. А та, увлекшись, забрала еще отчаяннее:
Я красивая – да гулящая,
Боль-беда твоя, жизнь пропащая.
Полюбить меня – даром пропадешь,
А убить меня – от тоски помрешь.
«Господи… Господи…» – билось в висках Кузьмы. Подавшись вперед, он смотрел в хмурое лицо, силился поймать взгляд опущенных глаз, вслушивался в гортанный голос. Откуда только она взялась на его голову? И где отыскала эту песню, эти слова? И как поет, проклятая, как забирает!.. Когда Данка умолкла и, подняв глаза, выжидающе взглянула на Настю, Кузьма уже точно знал – женится на ней.
Вокруг стола столпился весь трактир. Заметив их, Данка немедленно протянула руку и завела:
– Люди добрые, не оставьте своей милостью бедную цыганочку…
Настя нетерпеливо оборвала ее:
– Да замолчи ты! И вы все идите! Чего тут интересного? Спела – и спела!
– Ты с ума сошла, милая?! – взвилась Данка, когда зрители нехотя отошли от стола. – Сейчас бы они полный стол денег набросали! У меня под эту песню вся Калужская ярмарка ревмя ревела. Одних копеек на два рубля было, а ты…
– Дура… – устало сказала Настя. Сунув руку в сумочку, вынула пятерку. – На, возьми.
Глаза Данки загорелись. Но все же она пересилила себя и, закусив губу, отодвинула деньги.
– Мне… нет, не нужно. Мы цыгане…
– Цыгане… Где ты эту песню взяла?
– У колодников подслушала. Из Калуги этап гнали, и мужиков, и баб, а я – за ними, чтоб не сбиться. Вот бабы и пели. Там еще какие-то слова были, еще жальчее, да я позабыла…
Настя в упор посмотрела на нее и поднялась из-за стола.
– Хватит. Идем к нашим. Погостишь пока, а там видно будет.
Данка растерянно посмотрела на нее. Перевела взгляд на Кузьму. Тот наконец-то решился улыбнуться ей. Она взглянула недоверчиво, чуть ли не с досадой. Быстро опустила ресницы, и ее острые скулы пошли пятнами.
– Ну, воля ваша, – глухо сказала она. – Спасибо. Пойду.
У Макарьевны все были дома. Влетев в горницу, Кузьма увидел сидящего за столом еще заспанного Илью, перед которым стояла миска со щами.
– И когда это пост кончится… – пожаловался он при виде Кузьмы. – Замучили капустой своей, чертовы бабы.
– Семь дней всего осталось, – сообщила Варька и поставила на стол миску с пирогами. – Ешь, вот с грибами, вот с клюквой… Кузьма, что так долго? Где мое платье?
– Ой, господи… – спохватился Кузьма, напрочь забывший о Варькином поручении.
Та уже нахмурилась, уткнула кулаки в бока… но в горницу, улыбаясь, вошла Настя. За ее спиной жалась Данка.
– Смотрите, кого вам привела! Цыганка, таборная, родню догоняет. Так пела сегодня на Татарской, что отовсюду народ на воротах сплывался.
– Таборная? – заинтересованная Варька подошла ближе. Илья тоже привстал из-за стола.
Данка робко шагнула навстречу… и вдруг беззвучно ахнула. Лицо ее на глазах сделалось землисто-серым.
– Илья… – прошептала она, делая шаг к двери. – Варь…ка… Я…
Не договорив, она прижала руки к груди. Илья сдвинул брови, медленно вышел из-за стола. Настя непонимающе переводила глаза с него на Данку.
– Ты его знаешь?
– Данка!!! – вдруг завизжала Варька и, оттолкнув брата, бросилась вперед.
Данка отпрянула, но Варька кинулась ей на шею, обняла за худые детские плечи, прижала к себе, что-то быстро, торопливо зашептала на ухо. Данка что-то отвечала – явно невпопад, потому что ее перепуганные глаза смотрели через плечо Варьки на Илью. Тот молча рассматривал собственные сапоги.
– Это же Данка! Это же наша Данка! – кричала Варька. – Из нашего табора, тоже Корчи родственница! Мы и кочевали вместе, пока… – Варька покосилась на черный платок Данки и не очень уверенно закончила: – Пока она замуж в другой табор не вышла.
При этих словах Данка тяжело привалилась спиной к дверному косяку и закрыла глаза. На ее лбу выступила испарина. Варька взяла ее за локоть и, не обращая внимания на изумленные взгляды Насти и Кузьмы, потащила к столу. Илья по-прежнему стоял, уставившись в пол, до тех пор, пока подошедшая Варька не тронула его за плечо.
– Иди садись, – чуть слышно сказала она. – Потом…
Засиделись до глубокой ночи. Пироги удались лучше некуда, Макарьевна принесла самовар, Варька заварила чаю с душистой мятой. Она суетилась вокруг стола, и улыбка не сходила с ее некрасивого лица. Настя без конца расспрашивала Данку о таборной жизни, просила рассказать о ее кочевье, ахала и умоляла еще раз спеть «Очи гибельны». Данка говорила мало, петь отказывалась, на вопросы Насти отвечала вежливо, но с явной неохотой. То и дело ее взгляд останавливался на лице Ильи. Тот, за весь вечер не проронивший ни слова, темнел еще больше, хмурил брови. Но нога Варьки под столом в сотый раз толкала его в голенище сапога.

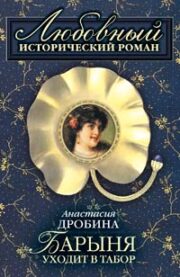
"Барыня уходит в табор" отзывы
Отзывы читателей о книге "Барыня уходит в табор". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Барыня уходит в табор" друзьям в соцсетях.