Первым Карноэ, прибывшим из Бретани на Маврикий, был его дедушка Франсуа-Мари; он оставил после себя записи, в которых была отражена часть его жизни. Эрве де Карноэ тоже вел на протяжении трех десятков лет что-то вроде дневника. Не такой яркий и личный, как рассказы, содержащиеся в знаменитой черной тетради дедушки; в целом дневник Эрве де Карноэ был смесью финансовых документов, ботанических наблюдений по выращиванию ванили и гвоздики, которые он неудачно пытался акклиматизировать, и высказываний, которые скорее успокаивали его совесть, чем предназначались для потомков. Одно из них стало крылатым выражением в семье Карноэ: «Я всегда был честным человеком — я не продал ни одного больного негра».
Двое этих Карноэ, Франсуа-Мари и его внук Эрве, были, бесспорно, самыми заметными личностями в семье: первый основал семью на Маврикии, а второй обогатил ее два поколения спустя. И они были единственными в семье, кто оставил письменные свидетельства о своей жизни.
Меньше десятилетия понадобилось Эрве, чтобы возделать сухие земли, заросшие колючим кустарником и заваленные камнями, и расчистить непроходимый лес, где, по слухам, скрывались беглые рабы, после освобождения брошенные на произвол судьбы; нищие и голодные, они были очень опасны.
Вместо малорентабельных культур хлопка и индиго Эрве стал высаживать сахарный тростник и кукурузу и построил первые солеварни Ривьер-Нуара.
С особой серьезностью он отнесся к строительству жилища для своей семьи на западном побережье: здесь он вырос и не собирался расставаться с этими местами. В те времена это выглядело довольно странно — большинство буржуа строили свои резиденции подальше от засушливого и жаркого побережья Порт-Луи, они предпочитали Мока или прохладные и дождливые высоты Керпипа. На развалинах укреплений, возведенных французами в XVIII веке против попыток английского вторжения, и была построена «Гермиона». Три пушки, укрытые стеной, которая тянется вдоль пляжа, в течение двух столетий все еще смотрели своими жерлами в открытое море.
Основанием здания послужила надстройка в виде усеченной пирамиды, которая когда-то была фортом; она, возвышаясь над морем, отделялась от него лужайкой, окруженной рощей филао. Просторный, роскошный колониальный дом в один этаж; его окна выходят на море, лес, примыкающий к солеварне, и на гору Ривьер-Нуара. Высокая, изогнутая на китайский манер соломенная крыша венчает толстые стены из базальта, простирается над просторным круговым варангом и опирается на литые ажурные столбики. Три каменных лестницы спускаются к морю, центральная — самая широкая.
Верхняя часть стен сделана в виде решетки, на которую и уложена крыша, а поскольку в доме не было потолка, то воздух через отверстия решеток циркулировал в комнатах и это создавало прохладу даже во время сильной декабрьской жары. Через эти отверстия под крышей иногда влетали птицы, но зато дом не нуждался в кондиционерах, а во время ураганов давление ветра значительно уменьшалось. За исключением нескольких вырванных пучков соломы, дом уже более ста лет выдерживал все ураганы. Позже на террасе позади дома заложили то, что когда-то было капониром для пушек. Засадили ее кокосовыми пальмами и делониксами и сделали большую отдельную кухню с резервуаром для воды и печами для выпекания хлеба. Старинный пороховой склад на склоне, защищенный валом от снарядов, летящих с моря, был переделан в конюшню. В прилегающем лесу были построены жилые домики для слуг.
Последующие поколения добавляли к дому постройки, кто для удобства, а кто реализуя свои фантазии. Густая растительность скрывала сарай, прачечную, хранилище для мяса, когда еще не было ни холодильника, ни электричества. На краю лужайки, рядом с берегом, кто-то из Карноэ в 1900 году распорядился построить маленькую романтическую беседку — литье тонкой работы с забавной острой крышей — для чтения, занятий музыкой или для мечтаний. Это была, как говорили в семье, беседка-объяснений-в-любви-при-заходе-солнца. Был еще отдаленный лодочный ангар, любимое место Ива, со столярной мастерской и маленькой кузницей — когда-то здесь подковывали лошадей, но потом их заменили негры, носившие паланкины на новых английских дорогах. Теперь это гараж.
Проселочная дорога огибает солеварни и углубляется в растущий по краю берега лес. Здесь стоит дом, построенный для Ива, а рядом еще один, крошечный домик в две комнаты с маленьким варангом. Этот кукольный домик носит имя сестры Сен-Феликс, и у него есть своя история.
В двадцатые годы Карноэ переселились в новый жилой пригород Керпипа — Флореаль, а «Гермиону» на пять лет передали французской обители, у которой была миссия на Маврикии. Потом обитель перебралась во Францию, а Карноэ вернулись в свой фамильный дом.
Год спустя, как-то днем, в дверях столовой они вдруг увидели молодую женщину в черном, обессиленную, покрытую пылью. Это была одна из монахинь, сестра Сен-Феликс. Вернувшись во Францию со своей обителью, она не могла пережить разлуку с Маврикием и с «Гермионой», здесь она провела самое счастливое время в своей жизни, и она решила вернуться сюда. Она отреклась от монашества, покинула обитель и сумела достать денег на самый дешевый билет на пароход. После многодневного пути она сошла на берег в Порт-Луи и на двуколке добралась до Ривьер-Нуара. И там, на пороге столовой, она обратилась к изумленным Карноэ: «Это я. Я не могу больше жить там, я вернулась. Умоляю вас, не прогоняйте меня. Я буду служить вам. Буду заниматься с вашими детьми. Научу их читать. Буду делать с ними уроки. Я буду делать все, что вы потребуете, но не гоните меня.» Ее оставили. Она стала членом семьи. Она вырастила два или три поколения детей. Для нее построили этот маленький деревянный домик, здесь она дожила до преклонного возраста, а когда умерла, дом сохранили в память о ней. Она иногда возвращается туда, как утверждает Лоренсия, которая всегда встречает призраков на своем пути.
Среди старых портретов Карноэ, развешанных в большой гостиной «Гермионы», портрет Эрве наводил на мысль, что этот предприимчивый предок был очень доволен своей участью. Рука на бедре, массивная цепочка от часов на жилете, демонстративное самодовольство, выставленное напоказ, — все это неизбежное следствие недавно приобретенного богатства. Добровольно он задыхался в костюмах из толстого европейского сукна и носил тугие, высокие воротнички; должно быть, он считал, что это единственно достойная одежда для богатого землевладельца, хотя в этой одежде можно было заработать апоплексический удар; но если в Лондоне или Париже такой риск был уместен, то на Маврикии, с его климатом, это выглядело нелепо. Он был не один такой. Этих «новых буржуа» на острове прозвали «толстые пальто». Автор портрета уловил эту неловкость и, затемнив цвет лица до красно-кирпичного, сумел ее передать.
Показухи ради Эрве распорядился пристроить к той стороне дома, что выходила на море, две круглые башни с островерхими крышами, возвышавшимися над основной крышей дома. Эти неуместные башни не вписывались в строгий фасад, утяжеляли его, но зато строение стало выглядеть замком.
Стены одной из башен отделаны внутри голубой камчатной тканью — это музыкальный салон, с вечно расстроенным от морской сырости пианино. В другой башне разместилась гостиная, раньше ее называли курильней, — плод фантазий экстравагантного пекинского декоратора XIX века, реализация которых, судя по счетам старого Карноэ, обошлась в немалую кучу пиастров.
Насколько музыкальный салон в своих бледно-голубых тонах и светлом дереве представляется оазисом тишины и спокойствия, настолько китайская курильня является мистической комнатой, способной пробудить гнев и жестокость. Ярко-красная от потолка до пола, обставленная низкими столиками и вычурными креслами из черного дерева, она по всей окружности отделана пугающими детей лаковыми панно, на которых драконы дерутся с химерами: вытаращенные от ненависти глаза, острые когти, огненные языки, вываливающиеся из открытых пастей на фоне исступленно впивающихся в потолок безумных растений. Раньше там запирали детей, которые плохо вели себя. По мнению тех, кто там побывал, провести час «с драконами» было наказанием в тысячу раз страшнее, чем лишиться купания или десерта. Но больше, чем драконы, химеры и бешеные хризантемы, в этой комнате пугает пол, инкрустированный дорогим деревом. На первый взгляд это прекрасно выполненная паркетная работа, от которой не ожидаешь ничего из ряда вон выходящего; но стоит сделать шаг, как каждая половица начинает издавать протяжный музыкальный звук, в зависимости от быстрых или медленных шагов, и выводить настоящую птичью песню, соловьиную руладу, радостную или же меланхоличную. Странная песня всегда по-разному звучит и не повторяется, даже если специально постараться воспроизвести ее в точности. На памяти Карноэ никто никогда так и не смог понять, благодаря какому подбору дерева и какому невидимому механизму китайский мастер сумел составить этот мелодичный паркет, которым гости «Гермионы» восхищаются уже сто лет. В тридцатые годы какой-то Карноэ, научного склада ума и мастер на все руки, сделал попытку и в одном месте гостиной разобрал часть паркета, пытаясь разгадать секрет. Пустая затея. Когда деревянные пластинки аккуратно уложили на место, выяснилось, что потревоженное пространство перестало издавать звуки. Как будто птицы сочли надругательством такое дерзкое любопытство и в этом месте отказались петь. Больше никто и никогда не пытался разгадать тайну. Раз и навсегда уяснили, что паркет в этой гостиной поет. Вот он и пел себе.
Бени испытала настоящий ужас, когда Вивьян завлек ее сюда, и эта диковинка ни за что на свете не заставила бы ее во второй раз переступить этот порог. Однако комната завораживала, и, проходя мимо окон, девочка всегда останавливалась. Она поднималась на цыпочки и, защищенная стеклом, разглядывала адское порождение. К семилетнему возрасту этот паркет превратился в ее навязчивый кошмар. В окно башни она различала ту самую часть с потревоженным деревянным покрытием. Сотни маленьких серых птичек были спрессованы и лежали там неподвижно, с закрытыми глазами и крошечными коралловыми клювиками, они не были мертвы, они как будто спали, одинаково вытянув одну лапку и согнув другую, как для исполнения френч-канкана. На первый взгляд этот птичий ансамбль создавал впечатление большого, шелковистого, серого с оранжевыми точками ковра, на котором от ветра перышки колыхались, как ворс. Всмотревшись, можно было увидеть движение — птички дышали с закрытыми глазами. Это дыхание учащалось и начинало образовывать ритмичную мелодию, от еле слышных звуков до мощного крещендо, изданного самой Бени, когда в холодном поту она проснулась от собственного крика.

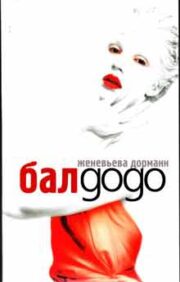
"Бал Додо" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бал Додо". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бал Додо" друзьям в соцсетях.