Горничная — ах! сколько прекрасных платьев подарила ей ее щедрая барыня! — рассказала, как Аврора пришла в свою комнату, бледная и расстроенная, оделась без ее помощи в день следствия. Эта девушка любила свою госпожу, потому что Аврора имела удивительную, почти опасную способность приобретать любовь окружающих ее, но было так приятно рассказать что-нибудь о таком интересном предмете.
Сначала они говорили только об убитом, рассуждали о его жизни и о его истории и составляли разные предположения об убийстве. Но теперь они говорили о своей госпоже, не приписывая ей положительно или открыто какое-нибудь отношение к убийству, но рассуждали о странности ее поведения, потом — зачем она убежала из дома в день следствия.
— Это было странно, — сказала кухарка. — Эти черноглазые женщины всегда такие горячие. Мне не хотелось бы оскорблять жены мистера Джона. Вы помните, как она отделала Стива?
— Но такого ничего не было между нею и берейтором? — спросил кто-то.
— Не знаю. Но Стив говорил, что она ненавидела его.
Зачем было Авроре ненавидеть покойного? Мистрисс Поуэлль оставила жало за собою и намекнула на нечто настолько ниже и отвратительнее истины, что я не загрязню этой страницы, упоминая об этом. Но мистрисс. Поуэлль, разумеется, сделала это грязное дело, не произнеся ни одного слова, которое бы могло выдать ее, если бы было повторено громко в гостиной. Она только пожала плечами, подняла свои брови соломенного цвета и вздохнула не то с сожалением, не то с унынием; но она запятнала репутацию женщины, которую она ненавидела, так же постыдно, как если бы употребила самые площадные выражения. Она сделала такой вред, какой только можно было уничтожить, показав брачное свидетельство, обагренное кровью, хранившееся у Джона, и рассказав всю историю, относившуюся к этой роковой бумаге.
Она сделала это прежде чем уложила свои чемоданы и уехала из дома, давшего ей приют, радуясь, что сделала этот вред и утешая себя надеждою сделать еще более вреда.
Не надо предполагать, чтобы манчестерская газета, возбудившая такой серьезный разговор в смиренной гостинице Кривого Рябчика, была оставлена без внимания слугами Меллишского Парка. Манчестерские газеты пересылались к молодому сквайру, и таинственное письмо было прочитано и возбудило толки. Все в доме, начиная от толстой ключницы, державшей ключи от кладовой почти три поколения, до берейтора Лэнгли, страдавшего ревматизмом, интересовались этим ужасным вопросом. Боязливый лакей побледнел, когда читали то место, где уверяли, что убийство было совершено каким-нибудь членом дома; но, кажется, были люди помоложе и поотважнее — особенно одна хорошенькая служанка — которым было бы приятно быть обвиненным в преступлении и выйти безукоризненно и торжественно из залы суда.
Знала ли Аврора все это? Нет; она сознавала только тупое и тяжелое чувство в своей груди, от которого летняя атмосфера казалась удушлива и ядовита в открытых окнах, и что дом, когда-то столь дорогой для нее, беспрерывно наполнялся страшным присутствием убитого, как будто умерший берейтор расхаживал по коридору в окровавленном саване.
Она отобедала с мужем одна в большой столовой. Они сидели молча за обедом, потому что присутствие слуг не допускало их говорить о предмете, занимавшем главное место в их мыслях. Джон время от времени тревожно взглядывал на жену, потому что он видел, что она сделалась бледнее после приезда в Меллиш, но подождал, пока останется один прежде чем заговорил.
— Душа моя, — сказал он, когда дверь затворилась за буфетчиком и его подчиненными. — Верно, ты больна. Это происшествие было свыше твоих сил.
— Меня тяготит воздух в этом доме, Джон, — отвечала Аврора. — Я забывала об этом ужасном деле, когда меня здесь не было. Теперь, когда я воротилась и нахожу, что время, которое было для меня так продолжительно — продолжительно и по своему беспокойству и по своему несчастью, продолжительно и по своей радости, мой милый, через тебя — а в действительности прошло только несколько дней и убитый лежит еще возле нас. Я… мне будет лучше после… после похорон, Джон.
— Моя бедняжечка, как я был глуп, что привез тебя сюда! Я никогда не сделал бы этого, если бы не посоветовал Тольбот. Он очень уговаривал меня тотчас же воротиться сюда. Он говорил, что если начнутся какие-нибудь хлопоты насчет убийства, то нам надо быть на месте.
— Хлопоты! Какие хлопоты? — вскричала Аврора.
Лицо ее побледнело и сердце замерло. Какие еще хлопоты могли быть? Неужели это страшное дело еще не кончилось? Она знала — увы! слишком хорошо, что не могло быть следствия об этом деле, которое не вызвало бы ее имя перед светом, связанное с именем умершего. Сколько она вытерпела, чтобы скрыть от света эту постыдную тайну! Скольким она пожертвовала в надежде спасти отца от унижения! А теперь, наконец, когда она думала, что мрачная глава ее жизни кончена, ненавистная страница вычеркнута — теперь, на самом конце, угрожали какие-то новые хлопоты, которые выставят ее имя и ее историю в каждой английской газете.
— О, Джон, Джон! — вскричала она, истерически зарыдав и закрыв лицо обеими руками. — Неужели я вечно буду слышать об этом? неужели я никогда, никогда не освобожусь от последствий моего несчастного сумасбродства?
Буфетчик вошел в комнату, когда она говорила это; она встала торопливо и отошла к окну, чтобы скрыть лицо от этого человека.
— Извините, сэр, — сказал слуга, — но в парке нашли кое-что, и я думал, что, может быть, вам угодно будет узнать…
— Нашли! Что? — воскликнул Джон, совсем растерявшись между своим волнением при виде горести своей жены и старанием понять этого человека.
— Пистолет, сэр. Его нашел один из конюхов. Он пошел в лес посмотреть на то место, где… тот человек был убит, и нашел там пистолет. Он лежал около воды, но закрытый травой и тростником. Тот, кто бросил его туда, думал, верно, что бросил его в пруд, но Джим, конюх, увидал что-то блестящее, а это и вышло пистолет; должно Сыть это тот, которым берейтор был убит.
— Пистолет! — закричал мистер Меллиш, — покажите.
Буфетчик подал оружие. Оно было так мало, что походило на игрушку, но тем не менее оно было убийственно в искусной руке. Это была прихоть богача, богато обложенная сталью и серебром. Пистолет заржавел от дождя и росы, но мистер Меллиш хорошо знал этот пистолет: он был его собственный.
Это был его собственный пистолет, одна из его любимых игрушек, он всегда сохранялся в той комнате, в которую входили только люди привилегированные — в той комнате, в которой жена его сама убирала его оружие в день убийства.
Глава XXXV
ТУЧА
Тольбот Бёльстрод приехал с женою в Меллишский Парк через несколько дней после возвращения Джона и Авроры. Люси было приятно приехать к своей кузине, приятно, что ей было позволено любить ее безусловно. Люси была признательна своему мужу за его любезную доброту, не поставившую преграды между нею и любимым ею другом.
А Тольбот — кто расскажет мысли, толпившиеся в его голове, когда он сидел в углу первоклассного вагона, по наружности занятый чтением передовой статьи в «Times»?
Желала бы я знать, много ли понял из этой статьи в то утро мистер Бёльстрод? Широкий лист бумаги, на котором печатается «Times», служит удобными ширмами для человеческого лица. Богу известно, сколько было выдержано за этой печальной маской! Замужняя женщина и счастливая мать небрежно смотрит на тот отдел, где печатаются Браки, Смерть, Рождение и, может быть, читает, что человек, которого она любила и с которым рассталась с разбитым сердцем лет пятнадцать или двадцать тому назад, пал где-нибудь в сражении в Индии с простреленным сердцем. Она держит газету твердо перед своим лицом, а муж ее завтракает, мешает ложечкой кофе, разбивает яйцо, между тем как она терпит пытку, вспоминая давно прошедшие дни.
Не лучше ли бы, если бы жены рассказывали своим мужьям сентиментальные истории своей юности до замужества? Не благоразумнее ли свободно разговаривать о черных глазах и усах Чарльза, изъявлять надежду, что бедняжка хорошо служит в Индии, чем держать скелет где-нибудь в темном уголку женской памяти?
Не одни женщины терпят пытку, закрываясь «Times»: мужья читают дурные известия об обществе железных дорог, где они опрометчиво взяли акции на те деньги, которые жена их считает обеспеченными в государственных облигациях; сын, с спорстментскими наклонностями, читает дурные известия о лошади, за которой он держал пари; дружеские ширмы скрывают его лицо, и он имеет время оправиться, прежде чем положить газету, и продолжает спокойно завтракать.
Люси Бёльстрод читала роман, пока ее муж держал «Times» перед своим лицом, думая обо всем, что случилось с ним с тех пор, как он встретился с дочерью банкира: какою давнишнею казалась ему история этой любви с тех пор, как спокойное домашнее счастье началось после его женитьбы на Люси! Он никогда не изменял, даже мысленно, своей второй любви; но теперь, когда он знал тайну жизни Авроры, он невольно спрашивал себя: как он перенес бы это открытие, если бы был на месте Джона, если бы он верил женщине, которую он любил, несмотря на свет, на ее собственные странные слова, которые так увеличили его опасение, так жестоко удвоили его сомнение?
«Бедная женщина!» — думал он. — Неудивительно, что она не хотела рассказывать этой унизительной истории. Я был не довольно нежен, я приставал к ней с моей упорной и безжалостной гордостью. Я думал скорее о себе, чем о ней и ее горести. Я был жесток и неделикатен, а потом удивлялся, что она не хотела довериться мне!»
Тольбот Бёльстрод, рассуждая об этом, видел слабые пункты своего поведения с сверхъестественной ясностью видения и не мог удержаться от горького сожаления, что не поступил великодушнее.
В этой мысли не было неверности Люси. Он не переменил бы свою преданную жену на черноглазое божество прошлого; но он был джентльмен и чувствовал, что он глубоко оскорбил и унизил женщину, вся вина которой состояла в доверчивом сумасбродстве невинной девушки.

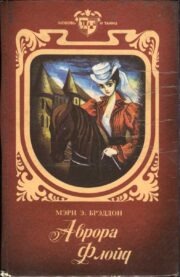
"Аврора Флойд" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аврора Флойд". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аврора Флойд" друзьям в соцсетях.