Мистрисс Поуэлль встала прислушаться с лицом, не выражавшим ничего, кроме невинного удивления.
Стук повторился громче и нетерпеливее прежнего.
— Это, должно быть, кто-нибудь из слуг, — пробормотал Джон, — но зачем же он не обойдет кругом к заднему входу? Однако я не могу же держать беднягу на воздухе в такую ночь, — прибавил он добродушно, отворяя балкон.
Он выглянул в темноту и дождь.
Аврора, дрожа в своей промокшей одежде, стояла в нескольких шагах от него, и дождь тяжело бил ее по голове. Даже в этой темноте муж узнал ее.
— Ангел мой! — закричал он, — это ты? В такой дождь и в такую ночь! Войди же скорее, ради Бога, ты, должно быть, промокла до костей.
Аврора вошла в комнату. Дождь струился с ее кисейного платья на ковер, по которому она шла, а складки ее кружевной косынки прилипли к ее лицу.
— Зачем вы позволили запереть дверь? — сказала она, обратившись к мистрисс Поуэлль, которая встала и казалась олицетворением беспокойства и сочувствия. — Ведь вы знали, что я в саду.
— Да, но я думала, что вы воротились, любезная мистрисс Меллиш, — сказала вдова прапорщика, суетясь около мокрой косынки Авроры, которую она хотела снять; но мистрисс Меллиш нетерпеливо вырвала ее у нее. — Конечно, я видела, как вы вышли, как вы сошли с луга по направлению к северному домику, но я думала, что вы давно уже воротились.
Румянец сбежал с лица Джона Меллиша.
— К северному домику, — сказал он. — Ты ходила к северному домику?
— Я ходила по направлению к северному домику, — ответила Аврора с насмешливым ударением на этих словах. — Ваши сведения совершенно справедливы, мистрисс Поуэлль, хотя я не знала, что вы сделали мне честь подсматривать за моими поступками.
Мистер Меллиш, по-видимому, не слыхал этого. Он взглядывал то на жену, то на компаньонку с выражением изумления и снова пробудившегося сомнения, неопределенного недоумения, которое очень неприятно было видеть.
— К северному домику, — повторил он, — что ты делала в северном домике, Аврора?
— Ты хочешь, чтобы я стояла здесь в мокром платье и рассказывала тебе? — спросила мистрисс Меллиш, и ее большие черные глаза сверкнули негодованием и гордостью. — Если ты желаешь объяснения для удовольствия мистрисс Поуэлль, я могу дать его здесь, если же только для твоего собственного удовольствия, я могу дать его и наверху.
Она пошла к двери, таща за собою свою мокрую косынку, но не менее величественна даже в своем мокром платье; Семирамида и Клеопатра тоже могли выходить в мокрую погоду. На пороге к двери она остановилась и посмотрела на своего мужа.
— Мне нужно завтра ехать в Лондон, мистер Меллиш, — сказала она.
Потом с надменным движением прелестной головкой и с молнией, сверкнувшей из ее великолепных глаз, которые как будто говорили: «повинуйся и дрожи!» она исчезла, а мистер Меллиш пошел за ней кротко, боязливо, с удивлением. Страшные сомнения и беспокойство, как ядовитые существа, вкрались в его сердце.
Глава XIX
ДЕНЕЖНЫЕ ДЕЛА
Арчибальд Флойд очень скучал в Фельдене без своей дочери. Он не находил уже удовольствия в большой гостиной, бильярдной, в библиотеке и в портретных галереях. Старому банкиру было очень грустно в его великолепном замке, который не приносил ему никакого удовольствия без Авроры.
Банкир запер гостиную и бильярдную и отдал ключи своей ключнице.
— Держите эти комнаты в порядке, мистрисс Ричардсон, — сказал он, — я буду в них входить только когда мистрисс и мистер Меллиш будут приезжать ко мне.
Заперев эти комнаты, мистер Флойд удалился в тот уютный кабинет, в котором он сохранял сувениры о печальном прошлом.
Можно бы сказать, что шотландский банкир был очень глупый старик, что он мог бы пригласить в свой великолепный замок своих соседей, племянников с женами, внуков и внучат, и сделать дом свой веселым от звука свежих голосков, а длинные коридоры шумными от шума шагов маленьких ножек. Он мог бы привлечь в свой одинокий дом литературных и артистических знаменитостей; он мог вступить в политическую карьеру и быть выбранным в депутаты от Бекингэма, или Кройдона.
Он мог бы сделать почти все, потому что у него денег было столько же, как и у Алладина; он мог бы поднести блюдо из алмазов отцу всякой принцессы, на какой вздумал бы жениться. Он мог бы сделать почти все, этот смешной старый банкир, однако не делал ничего, а сидел, задумавшись, в своем одиноком доме; потому что он был стар и слаб и сидел у камина даже в ясную летнюю погоду — думая о дочери, которая была от него далеко.
Он благодарил Бога за ее счастье, за ее преданного мужа, за ее обеспеченное и почетное положение; он отдал бы последнюю каплю своей крови, чтобы получить для нее эти выгоды; но он все-таки был только смертный и предпочитал иметь ее возле себя.
Зачем он не окружил себя обществом, как его уговаривала мистрисс Александр, когда нашла его бледным и изнуренным?
Зачем? Затем, что общество было не Аврора, затем, что самые блестящие остроты всех литературных знаменитостей на свете казались ему тупы в сравнении с самой пустой болтовней его дочери.
Банкир был ласковый дядя, добрый господин, горячий друг и щедрый покровитель; но он не любил никого, кроме жены своей, Элизы, и дочери, которую она оставила ему. Жизнь недостаточно длинна для того, чтобы заключать в себе много подобных привязанностей; и люди, любящие очень сильно, обыкновенно сосредоточивают всю силу их любви на одном предмете. Двадцать лет эта черноглазая девушка была кумиром которому поклонялся этот старик; а теперь, когда божество от него отнято, он впал в уныние и отчаяние перед пустым пьедесталом.
Богу было известно, как горько это возлюбленное дитя заставило его страдать, как глубоко вонзила она кинжал в самую глубину его любящего сердца и как охотно простил он ей.
Но прошлого Аврора загладить не могла. Она не могла переделать того года, который она вынула из жизни своего отца и который его беспокойство и отчаяние умножили в десять раз. Ее слезы, ее раскаяние, ее любовь, ее уважение, ее преданность могли сделать многое, но не могли уничтожить прошлого.
Старый банкир пригласил Тольбота Бёльстрода и его молодую жену приезжать в Фельден так свободно, как будто этот замок принадлежал им. Они приезжали иногда, и Тольбот рассказывал старику о неприятностях корнваллийских рудокопов, между тем как Люси слушала мужа с благоговением и восторгом.
Арчибальд Флойд гостеприимно принимал своих гостей и приказывал приносить из погреба для капитана самые старые и дорогие вина; но иногда в самой середине речей Тольбота о политической экономии старик уныло вздыхал и глядел через деревья на север, по направлению того отдаленного йоркширского дома, в котором царствовала его дочь.
Может быть, мистер Флойд не совсем простил Тольботу его разрыв с Авророй. Банкир, конечно, предпочитал Джона Меллиша, но он считал бы правильным, если бы капитан Бёльстрод удалился от света после замужества Авроры, изгнанником куда-нибудь, а не объявил бы о своем равнодушии женитьбой на бедной Люси.
Арчибальд с удивлением глядел на свою белокурую племянницу, изумляясь, как она могла понравиться Тольботу. Конечно, она была очень хорошенькая, с румяными щеками, белым носиком и розовыми ноздрями; но как холодна, как слаба казалась она в сравнении с этой египетской богиней, с этой ассирийской королевой, с блестящими глазами и волосами черными, как вороново крыло.
Тольбот Бёльстрод был очень спокоен, но, по-видимому, достаточно счастлив, гораздо счастливее с Люси, чем мог бы быть с Авророй. Безмолвное обожание его хорошенькой молодой жены успокаивало его и льстило ему. Ее кроткое повиновение, ее полное согласие с каждой его мыслью и с каждой его прихотью успокаивали его гордость; Люси была не эксцентрична, она была не запальчива. Если он оставлял ее на целый день одну в уютном домике в Гофмундской улице, который он нанял до своей женитьбы, он не боялся, что она одна поедет кататься верхом, даже без грума. Она могла быть счастлива без общества ньюфаундлендских собак. Она могла проходить по Регентской улице раз сто и не торговать «маленькой собачки». Она была кротка и женственна, и Тольбот без опасения мог положиться на ее собственную волю и не имел необходимости толковать ей, что и ее слабые ручки должны поддерживать достоинства Рали Бёльстродов.
Она иногда с робостью и с любовью заглядывала в его холодное, красивое лицо и спрашивала его слабым голосом: точно ли он счастлив.
— Да, моя милая, — отвечал обыкновенно корнваллийский капитан, — я очень счастлив.
Его спокойный деловой тон несколько разочаровывал бедную Люси, и она смутно желала, чтобы ее муж походил более на героев тех романов, которые она читала.
— Но ты любишь меня не так, как любил Аврору, милый Тольбот? — спрашивал умоляющий голос, так нежно желавший услышать опровержение.
— Может быть, не так, как я любил Аврору, душа моя.
— Не столько?
— И столько и лучше, моя милочка, любовью более благоразумной.
Если в первый раз, когда капитан сказал это, в его словах была маленькая ложь, можно ли осуждать его за это? Как мог он устоять от любящих голубых глаз, готовых наполниться слезами, если он отвечал холодно; от нежного голоса, дрожавшего от волнения, от ласковой руки, так легко лежавшей на его плече? Он был бы более чем человек, если бы мог дать нелюбящие ответы на эти любящие вопросы.
Настал скоро день, когда в ответах его не было уже ни тени лжи. Его маленькая жена прокралась почти неприметно в его сердце; и если он вспоминал лихорадочный сон прошлого, то только для того, чтобы радоваться спокойной ясности настоящего.
Тольбот Бёльстрод с женою гостили в Фельдене несколько дней в жаркую июльскую погоду и сидели за обедом с мистером Флойдом на другой день после грозы. Посреди обеда неожиданно приехали мистер и мистрисс Меллиш, подъехавшие к двери в наемной карете именно в ту минуту, как на стол поставили вторую перемену.

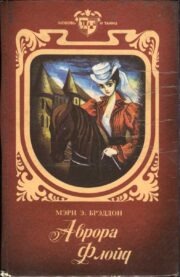
"Аврора Флойд" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аврора Флойд". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аврора Флойд" друзьям в соцсетях.