Желала бы я знать, известна ли была бедной Элизе Флойд хоть половина тех жестокостей, которые говорились о ней? Я сильно подозреваю, что ей удавалось как-то слышать обо всем этом и что ее даже это забавляло. Она привыкла к жизни, исполненной сильных ощущений, и Фельденский замок мог показаться ей скучным без этих, вечно новых, сплетен. Она находила коварный восторг в неудаче своих неприятельниц.
— Как они, должно быть, хотели выйти за тебя замуж, Эрчи, — сказала она, — если они ненавидят меня так свирепо! Бедные старые девы! И это я вырвала у них добычу! Я знаю, им неприятно, что они не могут меня повесить за то, что я вышла за богатого человека.
Но банкир так глубоко оскорблялся, когда обожаемая жена повторяла ему сплетни, которые она слышала от своей верной горничной, привязанной к такой доброй и ласковой госпоже, что Элиза впоследствии скрывала от мужа эти слухи. Ее они забавляли; но его задевали за живое. Гордый и чувствительный, подобно почти всем очень честным и добросовестным людям, он не мог вытерпеть, чтобы кто-нибудь осмеливался чернить имя женщины, которую он любил так нежно. Что значила неизвестность, из которой он вывел ее? Разве звезда менее блестяща, потому что она светит на сточную трубу точно так же, как и на пурпуром подернутое море? Разве добродетельная и великодушная женщина становится от того менее достойною, что она доставляет себе насущное пропитание единственным ремеслом, которым она может заниматься, и играет Джульетту перед зрителями, платящими по три пенса за право восхищаться ею и аплодировать ей?
Да, злые люди не совсем обманывались в своих предположениях: Элиза Проддер была актриса; на грязной сцене второстепенного лэнкэширского театра богатый банкир увидал ее в первый раз. Арчибальд Флойд питал бесстрастный, но искренний восторг к британской драме. Да, к британской драме, потому что он жил в то время, когда драма у нас была британская, и когда «Джордж Бэрнуэль» и «Джэн Шор» находились в числе любимых произведений искусства театральной публики. Как это грустно, что наши вкусы так изменились после тех классических дней! Пропитанный восторгом к драме, Флойд, остановившись переночевать в этом второстепенном городе Лэнкэшире, отправился в запыленную ложу театра посмотреть на представление «Ромео и Джульетта». Наследницу Капулетти представляла мисс Элиза Персиваль, Проддер тоже.
Я не думаю, чтобы мисс Персиваль была хорошая актриса или чтобы когда-нибудь она сделалась знаменитою в своей профессии, но у ней был глубокий мелодический голос, придававший словам автора богатую, хотя несколько монотонную музыку, приятную для слуха; на сцене она была прелестна; ее лицо освещало маленький театр, более, чем газ, которого содержатель желал дать вдоволь своим немногим посетителям.
В те времена шекспировские драмы игрались совсем не таким образом, как теперь. Актеры думали, что трагедия, для того, чтобы быть трагедией, должна быть совершенно не похожа ни на что, когда-либо случавшееся под луною. Элиза Проддер терпеливо ступала по старой и избитой колее; слишком добродушна и кротка была она, чтобы покуситься на какую-нибудь сумасбродную перемену в превратных понятиях того времени, которое не ей суждено было исправлять.
Что же могу я сказать об игре бесстрастной итальянской девушки? На ней было белое атласное платье с блестками, пришитыми к грязному подолу, по твердому убеждению всех провинциальных актрис, что блестки — противоядие от грязи. Она смеялась и разговаривала в маленькой зеленой комнатке перед тем, как выбегала на сцену стонать по убитому родственнику и изгнанному любовнику. Нам говорят, что Мэкреди становился Ришелье в три часа пополудни, и что опасно было подходить к нему или говорить с ним между этим часом и концом представления. Но мисс Персиваль не принимала к сердцу своей профессии; лэнкэширское жалованье едва оплачивало физическое утомление ранних репетиций и длинных представлений; а что же могло вознаградить за нравственное истощение истинного художника, которое живет в лице, представляемом им?
Веселые комедианты, с которыми Элиза играла, делали дружеские замечания между собой о своих частных делах в промежутках самых мстительных речей, рассуждали о количестве собранных денег слышным шепотом во время пауз на сцене.
Следовательно, не игра мисс Персиваль очаровала банкира. Арчибальд Флойд знал, что она была самая дурная актриса, когда-либо игравшая трагедию. Он видел мисс О’Нейль в этой самой роли — и на губах его появилась сострадательная улыбка, когда зрители начали аплодировать бедной Элизе в сцене с ядом. Но все-таки он влюбился в нее. Это было повторение старой истории. Это был Артур Пенденнис в маленьком театре Чаттери, прельщенный мисс Фотерингэ. Только вместо непостоянного, впечатлительного юноши это был степенный, деловой, сорокасемилетний мужчина, который никогда не чувствовал ни малейшего волнения, смотря на женское лицо до этого вечера — до этого вечера, — а с этого вечера в свете для него заключалось только одно существо, а жизнь имела только одну цель. Он пошел в театр и на другой вечер, и на третий, а потом успел познакомиться с некоторыми из актеров в таверне возле театра. Эти хитрые комедианты жестоко воспользовались им, допустили его заплатить за бесчисленное множество рюмок грога, льстили ему и вызнали тайну его сердца; а потом рассказали Элизе Персиваль, что ей необыкновенно посчастливилось, что старик, неисчерпаемо богатый, влюбился в нее по уши, и что если она хорошо разыграет дело, то он женится на ней завтра. Сквозь щель в зеленой занавеси ей указали на него, сидящего почти одиноко в ветхой ложе и ожидавшего, когда начнется представление и когда ее черные глаза опять засияют на него.
Элиза смеялась над своей победой; это была только одна в числе многих подобных, которые все кончились одинаково и ни к чему не повели, кроме как к взятию ложи в ее бенефис, или к подарку букета, поднесенного ей на сцене. Элиза не знала могущества первой любви над сорокасемилетнем мужчиной. Не прошло и недели, а Арчибальд Флойд торжественно предложил ей уже свою руку.
Он много слышал о ней от ее товарищей по театру и ничего не узнал, кроме хорошего. Она устояла против искушений, отказывалась с негодованием от драгоценных вещей, втайне исполняла много кротких, женственных, благотворительных дел, сохраняла независимость при всей своей бедности и тяжких испытаниях — ему рассказывали сотни историй о ее доброте, которые вызвали краску на лицо ее от гордого и великодушного волнения. Она сама рассказала ему простую историю своей жизни, рассказала, что она была дочь шкипера Проддера, родилась в Ливерпуле, едва помнила отца, почти всегда находившегося в море, не помнила брата, который был тремя годами старше ее, поссорился с отцом, убежал и пропал без вести, не помнила и матери, умершей, когда ей, Элизе, было четыре года. Остальное было сказано в нескольких словах. Ее взяла к себе тетка, содержавшая мелочную лавку в родном городе мисс Проддер. Она научилась делать искусственные цветы, но ей не понравилось это ремесло. Она часто бывала в ливерпульских театрах и вздумала вступить на сцену. Будучи смелой, энергичной молодой девушкой, она однажды вышла из дома своей тетки, прямо пошла к содержателю одного из второстепенных театров и просила его дать ей роль леди Макбет. Содержатель засмеялся и сказал ей, что, в уважение ее прекрасной фигуры и черных глаз, он даст ей пятнадцать шиллингов в неделю, чтобы «выходить на сцену» иногда в одежде крестьянки, иногда в придворном костюме. От «выходов» Элиза перешла к ничтожным ролям, от которых с негодованием отказывались актрисы значительнее ее, и честолюбиво погрузилась в трагическую часть — и таким образом девять лет продолжала играть эти роли, до тех пор, пока на двадцать девятом году от ее рождения судьба бросила на ее дороге богатого банкира, и в приходской церкви небольшого городка черноглазая актриса переменила имя Проддер на имя Флойд.
Она приняла руку богача отчасти потому, что, движимая чувством признательности за великодушный жар его любви, она находила его лучше всех тех, кого она знала, и отчасти по совету своих театральных друзей, сказавших ей с большим чистосердечием, чем, изящностью, что глупа будет она, если пропустит такой случай; но в то время, когда она отдала свою руку Арчибальду Мартину Флойду, она не имела понятия, о великолепном богатстве, которое он предложил ей разделить с ним. Он сказал ей, что он банкир, и ее деятельное воображение немедленно вызвало образ единственной жены банкира, которую она знала: дородной дамы в шелковых платьях, жившей в оштукатуренном доме с зелеными шторами, державшей кухарку и горничную и бравшей ложу в бенефис мисс Персиваль.
Следовательно, когда обожающий муж осыпал свою прелестную молодую жену бриллиантовыми браслетами и ожерельями, шелковыми платьями из такой толстой материи, что согнуть было трудно — когда он повез ее прямо на остров Уайт, поместил в обширных комнатах лучшей гостиницы и бросал деньги, куда попало, как будто носил лампу Алладина в своем кармане — Элиза начала увещевать своего нового властелина, опасаясь, не свела ни его любовь с ума, и что эта страшная расточительность была первой вспышкой помешательства.
Когда Арчибальд Флойд повел свою жену в длинную галерею Фельденского замка, она всплеснула руками от искренней женской радости, поглядев на великолепие, окружавшее ее. Она упала на колени и воздала театральную дань своему повелителю.
— О, Эрчи, — сказала она, — это все слишком для меня хорошо! Я боюсь, что, пожалуй, я умру от моего величия.
В полном цвете женской красоты, здоровья, свежести, счастья, как мало воображала Элиза, что ей действительно не долго придется пользоваться этим дорогим великолепием!
Читатель, ознакомившийся с прошлой жизнью Элизы, может быть, поймет теперь непринужденность и смелость, с какими мистрисс Флойд обращалась с дворянскими фамилиями, которые собирались смутить ее своею знатностью. Она была актриса: девять лет жила она в том идеальном мире, в котором герцоги и маркизы так же обыкновенны, как мясники и булочницы. Как ей было смущаться, входа в гостиные этих кентских замков, когда девять лет сряду она являлась почти каждый вечер пред глазами многочисленной публики? Могли ли испугать ее Ленфильды или Мэндерли, когда она принимала королей у ворот своего замка, да и сама сиживала на троне? Итак, что ни делали бы соседи, они никак не могли покорить эту непрошеную самозванку, между тем, как, к увеличению их досады, каждый день становилось очевиднее, что мистер и мистрисс Флойд были самой счастливейшей четой, когда-либо носившей узы супружества и превратившей их в розовые гирлянды.

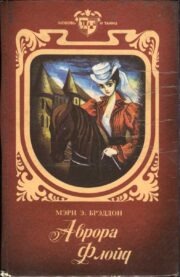
"Аврора Флойд" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аврора Флойд". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аврора Флойд" друзьям в соцсетях.