Здесь, в Свияжске, дыра во времени. Проваливаешься в темное Средневековье с его дикостью и фанатизмом. Сознание, вывернутое наизнанку: просить у Господа не любви, не радости, а песью морду — чтобы доказать свою верность. Чем больше ты пострадаешь во славу догмы, тем больше тебе зачтется, а если ты при этом истребишь толпу иноверцев, так это верный путь к спасению. Впрочем, чего еще ждать от людей, у которых самые яркие события в жизни — война и публичные казни?
Не смей быть довольным, здоровым и счастливым! И спорить с догмой тоже не смей! Будешь высказывать еретические идеи — сожгут на костре; не пожелаешь участвовать в самобичевании — закидают булыжниками, оружием пролетариата.
Сестра Фотиния не возвращалась. Кто-то из легкораненых сходил за новостями: Троцкий поставил всех дезертиров в шеренгу и велел выйти каждому десятому — их расстреляли в назидание остальным. Нарком объявил, что такую меру наказаний применяли древние римляне и потому их полки славились отменной дисциплиной.
Наступила ночь, а Нина все так же сидела, не меняя позы, и смотрела на огонь коптилки на столике у дежурного врача. Ей казалось, что души расстрелянных бродят здесь, по рядам храпящих бойцов. Они еще не привыкли к собственной смерти, еще изумленно пробовали поднять чью-то кружку с водой или сказать что-то приятелям — ан нет, невесомые пальцы пролетали сквозь предметы, а голос никто не слышал.
Сестра Фотиния растолкала Нину:
— Жив твой-то! На станции он, у китайцев, служит им переводчиком. Вон, записку тебе прислал.
Трясущимися руками Нина взяла клочок бумаги, но в темноте не могла разобрать букв.
— Там написано: «Жди. Как смогу — приду», — сказала монахиня.
— Что там, на станции? — плача от радости, спросила Нина.
— Троцкий уехал в Москву. Прицепил оставшиеся вагоны к паровозу и укатил. Ленина, говорят, во время митинга на заводе серьезно ранила террористка.
3
El cuaderno negro, черная записная книжка
Заградотрядовцы прочесали окрестности вокруг Свияжска и выловили около четырехсот дезертиров. От расстрела меня спасли китайцы. В лучших традициях Поднебесной империи они кинулись в ноги наркому и — не без моей помощи — заявили, что покинули поле боя, так как неправильно поняли приказ. Если последнего переводчика убьют, отряд полностью потеряет боеспособность.
Троцкий смилостивился и расстрелял только Пухова, который не смог должным образом организовать дело. Леша даже не пытался оправдаться, только стоял — босой, в рубахе распояской — и молча ронял слезы. Революция предала его — самого верного, больше всех любившего ее.
В Свияжске думают, что случившаяся катастрофа — наказание за памятник… теперь уже Иуде Искариоту. После отъезда Троцкого следователем по делу об исчезновении скульптуры поставили татарина, который едва говорил по-русски; он что-то недопонял и решил, что нарком воздвиг монумент предателю, а не бунтовщику. В любом случае, ни Люцифера, ни Иуды больше нет.
Китайцы хотели забрать меня с собой: Хэ, новый командир отряда, приставил ко мне двух охранников и наказал беречь как зеницу ока. Но товарищ Скудра не отдал им меня, ведь кто-то должен составлять листовки по поводу ранения Ленина! Так что в дополнение к китайцам меня стали охранять два латыша. Пока начальство решало, что со мной делать — отправить с китайским отрядом на левый берег Волги, оставить при агитбригаде или расстрелять к чертовой матери, — мы с конвоем неплохо провели время, играя в карты. В результате у меня появился трофейный немецкий бинокль.
Второго сентября вернулся Троцкий и привез из Москвы двух переводчиков-китаистов, так что я остался в плену у Скудры.
Моя работа в La Prensa теперь кажется далеким сном. Я вспоминаю наше роскошное здание, золоченую Афину Палладу на куполе — она олицетворяла, представьте себе, свободу слова. Норовистая редакция, упоительная борьба честолюбий — где все это теперь?
Тогда я жил с ощущением, что именно Буэнос-Айрес — центр Земли, сосредоточие культуры, науки и техники. У нас ведь метро, у нас лифты гоняют по этажам; у нашей газеты собственные бюро по всей Америке и Европе… Так странно, что мои коллеги по агитбригаде никогда не слышали не то что о La Prensa, а даже о Буэнос-Айресе. Для них центр мироздания — это Восточный фронт, а Аргентина и Атлантида — понятия тождественные.
Мои коллеги строят коммунизм. Есть только одно «но»: строители думают, что создают дворец, но чертежи у них — городского крематория, и они не могут отличить одно от другого: у них нет ни образования, ни жизненного опыта. Благодаря таким, как они, государство, которое якобы при коммунизме должно отмереть, превратилось в монстра. Деньгам вроде тоже пора исчезнуть, но в Совдепии без них шагу не ступить. Про эксплуатацию вовсе говорить не приходится: она достигла невиданных размеров.
Однажды начав что-то делать, человек не любит останавливаться и признавать ошибки. Каждый, наверное, испытал это на себе: споришь, зная, что говоришь не то, но свернуть с намеченного пути не можешь. Люди инстинктивно избегают сомнений в собственной правоте — находят миллион доводов «за» и страстно доказывают, что черное — это белое.
Мальчики с партбилетами в нагрудных карманах никогда не откажутся от своих чертежей. Сваи уже забиты, кран несет трубы, поздно закрывать стройку — слишком много сил и средств вложено в нее. Понимание придет потом, когда красная лента будет разрезана и оркестр сыграет туш. Тогда мальчики с удивлением обнаружат, что они своими руками выстроили крематорий, в котором они сами же сгорят, как Леша Пухов.
Самые страшные события всегда превращаются в мифы — а какой миф без героя? Герой должен совершать чудеса и страдать за народ, восстание из мертвых приветствуется.
Ранение Ленина сделало из него былинного богатыря, а из меня — специалиста по фольклору. Я пишу, что Владимир Ильич, несмотря на дырку в легком, день и ночь работает на благо революции. Человек такого ума, такого масштаба рождается раз в тысячу лет. Его страстно любит весь мировой пролетариат, ходоки из деревень стекаются в Кремль, чтобы отдать дань почтения выздоравливающему великому вождю. Его имя будет звучать в веках, его дело бессмертно и т. д. и т. п.
Зря я думал, что служение в церкви и уроки Закона Божия не пригодятся мне — я пишу акафисты со знанием дела. Единственное, что удивляет: мой сарказм воспринимается всерьез и на ура. Чем больше цветастых, пошлейших эпитетов — тем радостнее на душе у Скудры.
«Пока будет жить пролетариат, будет жить и Ленин».
«Воля народная защитила тебя от подлой руки убийцы!»
«Ты пришел облегчить нашу судьбу, ты уничтожил врагов рабочего люда. Мы не забудем твои страдания!»
Неплохо?
Смел ли я надеяться, что мои творения будут издаваться тиражом в сто тысяч экземпляров? А вот поди ж ты, Скудра вчера отослал курьера в Москву с рукописью брошюры «Великий вождь сельской бедноты». За этот труд я получил баснословный гонорар: двести рублей и трофейный несессер с мылом, зубным порошком, щеткой и бритвой «Жилетт».
На станции уже появились мальчишки с целыми стопками открыток с Лениным. Портреты разбирают на ура — кто покупает на счастье в бою, кто на счастье в карьере, кто для красоты: дома над кроватью повесить.
Нас с Ниной все вышеперечисленное ужасно смешит — конечно, смех этот нездоровый, но другого нет и не предвидится. Она пока остается в Успенском соборе. Дела ее пошли на поправку — она уже выходит со мной гулять на откос.
Нина действительно решила вернуться в Нижний Новгород, чтобы найти Жору. Я пытался ее отговорить — без толку, конечно: она только обиделась.
— Если бы у тебя был брат, ты бы оставил его в беде?
Я понимаю, что Жору надо выручать, но я каждый день читаю газеты, приходящие к нам из Нижнего.
«Известия»: Пролетариат ответит на поранение Ленина так, что вся буржуазия содрогнется от ужаса.
«Правда»: Гимн рабочего класса отныне будет гимном ненависти и мести.
«Красная газета»: Сотнями будем мы убивать врагов. Пусть будут это тысячи, пусть они захлебнутся в собственной крови. За кровь Ленина пусть прольются потоки крови — больше крови, столько, сколько возможно.
Что это? массовый психоз? истерия? охота на ведьм? Мы с Ниной буржуи по определению, и это нас собрался убивать всполошившийся пролетариат. Нам нельзя ехать в большой город — это слишком опасно; тем более, в Нижний, где Нину могут узнать. Но разве мою упрямицу свернешь с пути?
Все, что мне остается, это жить сегодняшним днем и пытаться быть счастливым, пока дают. Белые больше не нападают на Свияжск — прекрасно! Троцкий привез довольно лекарств и продовольствия, и моя любовь пока в безопасности. Дьявол припугнул меня, чтобы я не забывался, но он выполняет свои обязательства по сделке, и я исправно ему служу. Я — страшно подумать! — ему благодарен.
Вчера возвращался пешком на станцию, смотрел на грудастые темные тучи, на паникующих в кустах воробьев: гроза идет! Шел быстро — голодный, бесправный, совершенно влюбленный в свою женщину, грезивший завтрашним днем, когда опять можно будет сидеть с ней на откосе, на вечном свияжском ветру… Любоваться ею и тайком подмигивать Богу: «Видишь, видишь, какая она!»
Любочка обвиняла меня в душевной щедрости — какое там! Никому не отдам мою ненаглядную: буду сторожить, ревниво следить — не зарится ли кто? Я ведь даже целую ее, загораживая собой от всего мира.
Дорóгой, конечно, промок до нитки. Бежал — полуослепший, задохнувшийся, — потом стоял под навесом, вытирал ладонями лицо, стряхивал капли с волос. А хорошо, черт возьми! Просто замечательно!

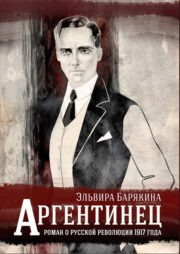
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.