Даже Саблин заметил, что она не находит себе места:
— Дорогая, с тобой все в порядке?
Очнулся! Если бы он не был таким бесчувственным пнем, разве бы она хоть раз посмотрела на сторону?
Через несколько дней Мариша встретила на базаре Клавдию, кухарку Одинцовых, и та сообщила, что Жора уехал в Осинки вместе с прокурорским наследником. Значит, Клим действительно решил заполучить Нину.
«Люби и помогай… люби и помогай, — твердила себе Любочка и молилась: — Господи, сделай так, чтобы Клим исчез навсегда и чтобы все пошло как раньше!»
2
Он вернулся, и Любочка сразу поняла: что-то у него не заладилось. Клим был бледен, губы поджаты — вошел и, ни с кем не здороваясь, сразу поднялся к себе, а через час вызвал Маришу.
— Велел продать все вещи, оставшиеся от папеньки, — в недоумении сказала та, заглянув к Любочке. — Созови, говорит, соседок и за ценой особо не гонись. Главное — избавиться от барахла как можно скорее.
Затем Клим позвал Саблина и предложил ему на выбор либо долгосрочную аренду дома, либо постепенный выкуп.
Ночью Саблин не мог уснуть:
— Он не требует даже процентов. Подумать только, у нас будет собственный дом! Но мне стыдно: мы ведь наживаемся за счет твоего кузена… — Он коснулся руки Любочки: — Ты спишь?
— Нет.
— По-моему, Клим выглядит нездорово. Я намекнул, что с удовольствием порекомендую ему нужного специалиста, но он, как и ты, ужасно боится докторов.
Деликатностью и прозорливостью Саблина можно было восхищаться.
3
Утром следующего дня Любочка была у Нины.
— Клим сделал предложение? — изумилась она. — Погостил у тебя и уже был готов?
Нина криво усмехнулась:
— Он меня не замуж позвал, а «поехать с ним в Буэнос-Айрес». Как какую-нибудь цыганку.
— А если бы он позвал замуж?
— Куда я поеду? У меня тут семья, дом, завод… Но мы с Климом договорились насчет векселя: он пообещал, что передвинет сроки на май.
Нина описывала, как Клим ухаживал за ней, как что-то незначительное и глупое. Они бродили по запущенной аллее, Нина обронила серьгу, и они долго искали ее в опавших листьях. А потом Клим признался, что давно ее нашел, только не хотел говорить, потому что это здóрово — сидеть рядом и перебирать желтые кленовые звезды.
Любочка не знала, то ли злорадствовать, что дорогому кузену дали от ворот поворот, то ли накричать на Нину: «Ты совсем с ума сошла? Ты не понимаешь, что так и останешься одна или найдешь себе разумного экономного бирюка вроде Саблина, от которого никаких звезд не дождешься?»
Впрочем, все было понятно. Нина потеряла чувствительность — так бывает у фронтовиков после тяжелых ранений: тело перестает откликаться не только на боль, но и на ласку.
Посылка со счастьем пришла не на тот адрес.
4
Антон Эмильевич Шустер, отец Любочки, вернулся из Кисловодска в конце сентября.
Худой, с узким серьезным лицом и шкиперской бородой, он одевался в английские костюмы, десятилетиями не изменял привычкам и обладал блестящей эрудицией. Когда-то его критические статьи сеяли панику среди московских писателей и актеров: он проводил остроумнейшие параллели и умел так припечатать, что публика покатывалась со смеху, а творцы подумывали о самоубийстве.
Если у тебя все хорошо и ты удачлив, как Цезарь в зените славы, однажды боги решат поглумиться над тобой. Сначала у Антона Эмильевича умерла жена, потом Россия объявила войну Германии. Коллеги стали интересоваться — а не немец ли Антон Эмильевич? Фамилия Шустер казалась им подозрительной.
Промышленные предприятия, принадлежащие гражданам Австро-Венгрии и Германии, обложили двойным налогом, но москвичи посчитали это полумерой: купечество отправило прошение на высочайшее имя, чтобы у немцев и австрийцев конфисковали имущество, привилегии и патенты. Началась форменная истерия: бдительные граждане выискивали врагов и под дружное «Долой немчуру!» нещадно травили их.
Те, кого Антон Эмильевич критиковал в силу профессионального долга, обвинили его в сознательном вредительстве русской культуре. Это было настолько глупо, что он даже не пытался оправдываться, но вскоре от его услуг отказались чуть ли не все газеты и журналы — на всякий случай, чтобы ненароком не замараться о подозрительного типа.
Антон Эмильевич напечатал объявление: «Довожу до всеобщего сведения, что А. Э. Шустер состоит русским, а не германским подданным» — и переехал в Нижний Новгород, где его никто не знал, кроме родственников по линии жены.
Он купил дом, и не просто дом, а каменный терем, уцелевший со времен Козьмы Минина, и перевез в него дочь и огромную разношерстную коллекцию антиквариата, выторгованного на Сухаревке.
В Нижнем Новгороде тоже бушевал патриотизм, но в гораздо меньших масштабах: дело ограничилось переименованием ресторана «Германия» в «Россию» и арестом клоунов в цирке, которые вздумали шутить над российской авиацией. Впрочем, и здесь считали хорошим тоном отказать от места гувернантке-немке или набить морду человеку, смутно похожему на австрийца. Страсти немного улеглись, когда в Нижний прибыли первые эшелоны с пленными, и вместо самодовольных бюргеров изумленная публика увидела голодных, больных людей, заросших многодневной щетиной.
Литературной и театральной критикой Антон Эмильевич больше не занимался и устроился в местную газету «Нижегородский листок»: сначала колумнистом, а потом ответственным секретарем — когда молодого человека, занимавшего эту должность, призвали на фронт. Дочь вышла замуж, и вокруг нее образовался приятный кружок интеллигенции. Постепенно жизнь пришла в норму, хотя прежнего блеска, разумеется, не было. Антон Эмильевич ходил на службу, критиковал правительство (но не в печатном виде) и составлял нескончаемую опись своих антикварных сокровищ.
5
Любочке нравилось приходить к отцу — это была их традиция: раз в неделю, по субботам, устраивать обед на двоих. Обедать с Антоном Эмильевичем было одно удовольствие: если он выпивал рюмочку вермута, то рассказывал, что вермут изобрел его тезка, итальянец Антонио Бенедетто Карпано, смешав белое вино с травами и специями, число коих достигало тридцати. Если кухарка подавала сельдь, он, словно фокусник из шляпы, доставал сведения о промыслах норвежских моряков, вплетал способы консервирования, а также цены на Мытном рынке и интересный факт, что в 1915 году в трактир Пряничникова привезли небывалую селедку чуть ли не в аршин в длину.
Комнаты в отцовском тереме были уютными: серые обои с перламутровыми вензелями, на полках — табакерки и мундштуки, по углам — коллекции дорогих тростей, на стенах — портреты офицеров в треуголках и гравюры с изображением наяд.
Теперь среди милого хлама появились вещи, которые Любочка видела в комнатах старшего Рогова: Клим устроил у себя поток и разграбление, и если бы не Антон Эмильевич, ушлые соседи вынесли бы все, вплоть до альбомов с фотографиями.
— Совершенно несерьезный молодой человек, — сказал он, зайдя к Любочке после неприятного разговора с племянником. — Как можно распродавать семейное достояние? Ты-то, милая, куда смотришь?
— Мне ничего от него не надо, — буркнула Любочка.
— Тебе не надо — детям твоим потребуется, — сказал Антон Эмильевич и отправился домой, доверху нагрузив пролетку пустыми птичьими клетками, утюгами и абажурами. Следом на подводе везли железный сейф.
Любочка понимала, почему Клим отнесся к родному дому с такой бессердечностью: когда у тебя все пропало, глупо дорожить обломками кораблекрушения. Нужно оставить их на берегу, а самому обсыхать, приходить в себя и начинать жизнь с начала.
Нина сказала, что они сходили к нотариусу и переоформили вексель. Она вся светилась от счастья:
— Матвей Львович пообещал мне государственный кредит: война кончится, солдаты вернутся с фронта, и тогда у нас все пойдет по-другому.
6
Обед был накрыт на троих. Любочка расправила на коленях салфетку.
— Ты кого-то ждешь? — спросила она отца.
Антон Эмильевич хитро взглянул на часы:
— Сейчас-сейчас!
В прихожей запрыгали медные колокольчики.
— Это он!
Антон Эмильевич вскочил и через минуту ввел в столовую… обыкновенного солдата.
— Вот он, мой «уникальный случай»! — воскликнул он. — Осип Другов… как вас по батюшке?
— Петрович, — пробасил солдат.
Любочка осторожно протянула ему ладонь и тот крепко стиснул ее крупной, шершавой рукой:
— Рад знакомству.
Осип был высок и широк в плечах. На вид ему было чуть за тридцать, но усы и волосы уже поседели.
Больше всего Любочку изумило то, что он не стеснялся, хотя явно впервые попал в приличный дом. Он вертел в руках столовые приборы, спрашивал, что для чего нужно, оглядывал отцовские сокровища с любопытством мальчишки, приведенного в ювелирный магазин: да, красиво, но раз трогать нельзя, то и бог с ними.
У него было очень полнокровное лицо и синие глаза с желтоватыми белками в красных прожилках; когда он тянулся за хлебом, на его бурой от загара шее расправлялись нетронутые солнцем светлые морщины.
— Товарищ Другов в своем роде герой, — произнес Антон Эмильевич. — Он был одним из зачинщиков бунта в шестьдесят втором полку. Вылечившихся после ранений солдат насильно сажали на поезда, чтобы отправить на фронт, а Осип Петрович с коллегами отбил их у конвоя.
Отец старался говорить с иронией, но Любочке слышались в его голосе непривычные заискивающие нотки. Он ухаживал за Осипом:

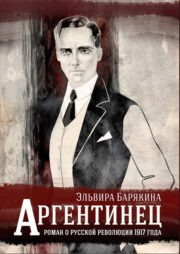
"Аргентинец" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аргентинец". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аргентинец" друзьям в соцсетях.