ИСА
Душа моей хозяйки, Арджуманд, кровоточила. Страдания еще больше усиливали ее светлую красоту, и при взгляде на агачи у меня разрывалось сердце. Однако временами я замечал внезапную искру, мелькавшую в ее глазах, как выстрел в ночи, — что это было? проблеск надежды? Да, наверное, так…
Агачи держалась мужественно, не признавая поражения. Судьба играла ею, гнула, ломала… Но она вновь вспоминала лицо своего любимого, Шах-Джахана, короткую встречу в саду, и это воспоминание, видимо, давало ей силы жить. Она и жила, погружаясь во всевозможные занятия: верховая езда, рисование, сочинение стихов… Еще она раздавала бедным те деньги, что Шах-Джахан некогда заплатил за ее украшения, — ей казалось, что так она обманет судьбу, заставит ее смягчиться и желанный исход наконец придет.
Раз в неделю нищие выстраивались в длинную очередь: сидели на корточках вдоль насыпи между водостоком и стеной здания. Прокаженные, калеки со скрюченными, деформированными телами, они скулили и подвывали; каждый держал миску. Я сам много лет назад только чудом избежал подобной участи и теперь предпочел бы держаться подальше. И все же я медленно следовал за хозяйкой. Всякий раз, когда она нагибалась, я придерживал ее гарару посохом, чтобы она случайно не коснулась изгоев.
— Перестань, Иса, не нужно так делать.
— Агачи, они нечисты. Ты подхватишь их болезни.
— Это всего-навсего одежда.
Она упрямо дернула полу и продолжила свое дело. За нами медленно шли слуги, пошатываясь под тяжестью толстостенных глиняных котлов с едой. Хозяйка погружала черпак в котел, наполняла едой миски и одновременно клала в протянутую руку попрошаек чапати, лепешку.
— Ты их винишь в их же страданиях и несчастьях, разве это справедливо, Иса?
— Да, агачи. Почти все они — бадмаши. Они живут лучше, чем даже купцы, торгующие пряностями.
— Если бы ты был одним из них, разве не захотел бы, чтобы и тебя накормили?
— Да, агачи, но…
Хозяйка не обращала внимания на мои протесты, как всегда. Если уж она что-то решала, никто, даже мать, даже дедушка, не мог ее от этого отговорить. Она могла бы поручить мне или Муниру заниматься раздачей милостыни, но настаивала на том, чтобы делать это собственными руками.
В жарком, неподвижном воздухе нищие ужасно смердели, и я невольно задерживал дыхание, чтобы не вдыхать испарения. Арджуманд, казалось, не замечала этого, а лишь деловито раскладывала пищу по мискам и неутомимо двигалась дальше вдоль бесконечного ряда. Жужжали мухи, садились, снова взлетали, жужжали. От назойливых насекомых лицо хозяйки защищала вуаль.
— Где ты ночуешь? — спросила Арджуманд у молодой женщины. Девушка была очень миловидна, но без руки, а ее одежда была так изношена, что лохмотья едва прикрывали наготу.
— Где придется.
— Сейчас тепло, агачи, — холодно проговорил я. — Звездное небо — неплохой кров. И не сосчитать, сколько раз мне приходилось…
— Но ты больше не спишь под открытым небом. — Она повернулась, подняла черпак. — Я спрашиваю их, Иса, не тебя. И, пожалуйста, не дуйся, дуться — исключительно моя привилегия.
— Но ты редко ею пользуешься, агачи.
Она рассмеялась. Нищие вокруг льстиво захохотали, а меня передернуло. Хорошо, что я рядом, а то еще неизвестно, чем бы все это закончилось.
Я никак не понимал ее заботы об этих бездомных, хотя однажды она попыталась мне объяснить.
— Мой дедушка тоже был бедняком. — Агачи сидела на каменной скамье под раскидистым фикусом и носком туфли рисовала узоры в пыли. — Я же не знала иной жизни, кроме этой, полной удобств. Мне грустно видеть живущих на улице, голодных, неимущих. Им нужно как-то помочь, что-то сделать.
— Это во власти падишаха.
— Властители и знать не хотят о таких вещах, — проронила она.
— А почему ты должна ими заниматься, агачи? Бедных много, все они не поместятся в вашем прекрасном саду.
— Я вспоминаю, о чем мне рассказывал дедушка. После того как на него напали и ограбили на пути в Агру, он ничего не ел несколько дней. Это жуткая история, но в ней для меня не было бы смысла, если бы не было страдания. Разве муки любви так уж отличаются от мук голода? И те, и другие заставляют страдать тело, и оно вопиет об облегчении страданий. Я так же несчастна, как и эти люди. Их желудки взывают, чтобы их наполнили пищей, а мое сердце просит, чтобы его наполнили любовью. Приходилось ли тебе когда-нибудь испытывать голод, Иса?
Лучи солнца, пробиваясь сквозь листву, падали ей на лицо. Она сощурилась и испытующе заглянула мне в глаза. Как и ее тетушка, моя хозяйка обладала способностью смотреть так проницательно, словно насквозь видит человека и его мысли.
— Да, я часто голодал. Но тело цепляется за жизнь и не хочет умирать. К тому же, когда голод становился невыносимым, я воровал.
— Основатель империи, Бабур, делал то же, что и ты. А голод любви? Его ты испытывал?
— Дважды, агачи.
— И сдался. Стыдно, Иса! Надо было сражаться.
— Таков мой удел, мне пришлось сдаться. Первую любовь я потерял, вторая… недосягаема. Со временем любовь становится слабее, но никогда не умирает. Вот и моя любовь останется со мной, как голод бедняка. Агачи, я мог бы выполнить эту работу вместо тебя, только прикажи. Я и сам накормлю нищих. Твои родственники сидят дома, и правильно поступают.
— Нет, Иса. Я хочу делать все своими руками, а не приказывать другим. Коран предписывает нам творить милостыню и помогать бедным.
— Но не все они мусульмане.
— Среди них почти нет мусульман, — быстро ответила она, — но мы помогаем собственному народу. Коран не говорит, что помощь нужна только тем, кто чтит Аллаха. — Я заметил, как в ее глазах блеснула смешинка. — Разве не так, Иса?
— Да, так, агачи.
— А сам-то ты и вправду мусульманин?
— О да, агачи.
Это ее рассмешило, словно ей был известен секрет, о котором не знал более никто. Я был благодарен ей за расположение ко мне. Только она одна могла задать мне такой вопрос, потому что была такой же решительной, как ее тетушка. Но я не мог представить, чтобы Мехрун-Нисса, ныне любимая супруга падишаха Нур-Джахан, трудилась бы под палящим солнцем, помогая вонючим нищим.
…Был полдень, на улице почти никого не было, кроме нас да оборванцев. Несколько отощавших бродячих псов — кожа да кости — терпеливо сидели в сторонке, ожидая объедков. Вдруг сквозь дымку я увидел, как по направлению к нам скачут два всадника; уличная грязь приглушала цокот копыт. Одеты они были необычно: облегающие узкие шаровары, рубахи заправлены внутрь, а ноги по колено заключены в кожаные футляры. Лица у всадников были такими же темными, как у меня, но я сразу понял, что изначально кожа была много светлее, поскольку чернота отливала огненно-красным. Держались они надменно, будто не на конях прискакали, а спустились на облаке с небес.
Арджуманд, заметив, что я отвлекся, спросила:
— Кто это?
— Фиринги…
Кони перешли на шаг, и я заметил большие тяжелые мечи, вдетые в ножны. Всадники смотрели на нас дерзко, не отводя глаз.
— Фиринги? Я о них слышала, — сказала Арджуманд. — Они постоянно докучали дедушке с концессиями на торговлю. Дедушка их не любит. Говорит, они жадные и нечестные, часто нарушают данное слово. И еще он говорит, им никак не угодишь, они вечно недовольны и хотят, чтобы весь мир лежал у их ног. Когда падишах сказал, что им не следует размещать образ женщины, которой они поклоняются, на кораблях, когда на них плывут мусульмане, совершая паломничество в Мекку, они отказались слушать. Не будем обращать на них внимания.
— Хорошо, агачи.
Моя хозяйка вернулась к своему занятию. Оставалось накормить всего трех попрошаек, но мне не так-то просто было выполнить распоряжение Арджуманд — не смотреть на всадников. По тому, как держались фиринги, я догадался, что они пили арак. Светлые глаза у обоих покраснели, лица отекли. Они переговаривались на незнакомом языке, который звучал, словно слова выскакивали изо рта боком и падали вниз со слюной. Один направил своего скакуна в нашу сторону. Я почуял беду. Солнце светило так, что легкие одежды моей хозяйки просвечивали и ее тонкое, крепкое тело было отчетливо видно. Я встал, чтобы загородить ее, но тут, совершенно неожиданно, коренастый крепыш, который был ближе ко мне, пришпорил лошадь и толкнул меня на землю. Падая, я выхватил кинжал…
АРДЖУМАНД
Услышав крик Исы, я обернулась.
Он падал прямо под копыта. Я бросилась на помощь, но жирный фиринги направил лошадь между нами. Я почувствовала запах пота и, еще того хуже, затхлый запах мужской мочи. Это было невыносимо. Жаркий климат особый, здесь нужно мыться каждый день, но фиринги был чужестранцем и, верно, следовал собственным привычкам, согласно которым моются раз в год.
Единственным моим оружием был черпак, и я что было сил ударила им лошадь.
— Убирайтесь! — Черпак сломался, в руке осталась только рукоятка.
Мой выкрик только позабавил мужчин, они расхохотались. Второй фиринги был крупнее, такой же неопрятный, на лице у него кустилась желтая борода. Я попыталась отступить, но путь преграждали нищие, чей голод был сильнее страха. Слуги стояли в растерянности, пооткрывав рты, бедный Иса пытался подняться, но всадники снова и снова опрокидывали его наземь.
— Оставьте нас в покое!
— Мы не уйдем, пока не увидим твое прелестное личико, — заговорил жирный на нашем языке, коверкая слова.
Внезапно он спешился и схватился за край моей накидки. Ткань разорвалась, открыв мое лицо на обозрение мерзких глаз. Мне казалось, что меня поразила молния, — да и то при ударе молнией легче было бы перенести боль. Я не знала, как себя вести, — никогда прежде мне не доводилось сталкиваться с подобным. Жизнь в тепличных условиях, под защитой, сделала меня беспомощной. Я стояла, дрожа от унижения, от того, что эти грязные существа рассматривают меня. Ни один мужчина со стороны не видел моего лица, а теперь оно было открыто взглядам злобных фиринги и нищих. Фиринги хохотали, отпускали язвительные замечания, но я не слышала их, так велико было смятение. Я ощущала себя оскверненной, подвергшейся насилию… Смущение, однако, быстро сменилось гневом.

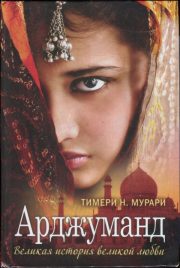
"Арджуманд. Великая история великой любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Арджуманд. Великая история великой любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Арджуманд. Великая история великой любви" друзьям в соцсетях.