Что же происходило тогда в сердце молодой девушки? К чему это отгадывать? Она все жила по-прежнему тихо и однообразно, только тщательнее отворачивалась от барона, когда встречала его на улице, и дольше стала засиживаться по вечерам, оставаясь одна в своей комнатке. Барону казалось при редких ее встречах, что она на него сердится, и это было ему досадно.
«С какого права?» — думал он. Однако ему, вероятно, было бы еще досаднее, если 6 она не сердилась на него вовсе. Жизнь его катилась в шумном забытьи. Поутру он слушал рассеянно какую-нибудь лекцию, потом отправлялся на фехтбоден заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством[13], потом веселая ватага отправлялась обыкновенно на штулвагенах за город с вином и песнями и ликовала всю ночь с буйными восклицаниями.
Однажды университет праздновал день своего основания. Студенты с бутылками, привешенными к пуговицам сюртуков, отправились по партиям к загородным корчмам. Барон, нарядившись также ходячим погребом, к явному удовольствию своих товарищей, вмешался в буйную толпу и не возвращался целый день. Напрасно дочь профессора украдкой поглядывала из-за занавески, ожидая с трепетом, что бедного ее соседа приведут под руки на квартиру. Наступил вечер. Все окна мигом иллюминовались в честь торжества, под опасением неумолимого разбития. По всем направлениям города начали раздаваться веселые хоры, которые подвигались с факелами к зданию академии и провозглашали ей громогласный vivat.
Все городские обыватели стояли у ворот своих домов и с любопытством посматривали на буйную веселость академических именин. Крик, топот, песни не умолкали ни на минуту. К дому профессора прихлынула ватага полупьяных буршей.
— А знаете, — сказал хриплый голос, — он, старый хрыч… был неучтив вчера в коллегии. Право, неучтив. Право, ну… я шаркать начал… моя воля… Не правда ль, моя воля?.. Так. А он вдруг говорит, старый хрыч, чтоб я не мешал. Мешаю будто другим слушать. Ведь это грубость?
— Грубость, — сказали несколько голосов.
— Ну, так за чем же дело стало, pereat[14] ему!
— Pereat! — закричала толпа с такими ужасными воплями, что стены ближних домов чуть не пошатнулись.
Профессор, сидя спокойно за своим письменным столиком, побледнел. «Уж не мне ли? — подумал он. — Нет, это, верно, моему ученому и бедному другу».
— Silentium[15], бурши! — закричал другой голос, — Грех вам и стыд обижать невинного старика!
— Что… что?..
— Притеснял ли он когда-нибудь кого? Был ли он когда врагом студентов? Не трудился ли он всю жизнь для вас? А вы вместо благодарности хотите отплатить проклятием. Стыдно, ребята!
— Фиренгейм прав! — сказал кто-то.
— У старика хорошенькая дочь, — заметил другой.
— Виват! — закричали все. — Vivat! Vivatl Vivat! Crescat, floreat in aeternum![16]
— Это, господин барон, тебе так не пройдет, — сказал сердито хриплый голос. — Я филистер. Со мной не угодно ли прогуляться в круглых шляпах?
— Хоть на пистолетах, — отвечал Фиренгейм.
— Ну, пожалуй, на пистолетах.
— Нет, — сказал кто-то из старейшин, — на шлегерах!.. Обиды кровной нет.
— Vivat! — кричала толпа. — Vivat! Vivat!
За окнами показались блуждающие огни. Потом одно окошко поспешно отворилось, показался профессор и смущенным голосом начал благодарить студентов.
Между ними воцарилось глубокое молчание. Профессор описал свою академическую жизнь, свое ученое стремление, свою любовь к студентам и заключил, что, доживая до преклонных лет, лучшей его отрадой была мысль, что труды его не совсем пропали для молодых его друзей. Между тем к толпе почтительно слушающих студентов прихлынули другие. По окончании речи виваты, как трескучий гром, начали перекатываться по воздуху. В одно мгновение факелы брошены в одну груду, и веселый огонь озарил палящими переливами радостный пир молодости и подгулявшей науки. Профессор выкатил весь свой погреб и тешился как дитя.
С сверкающими глазами он жал у всех руки, потчевал непьющих лучшими сигарами и отдал весь рейнвейн свой до последней бутылки.
Через несколько дней Фиренгейма привезли без чувств домой. Грудь его была прорублена до самого плеча.
Когда он начал приходить в себя, в глазах его и в душе было еще темно и туманно; но в неясном тумане обозначались едва заметно нежные черты, и двое влажных очей, как отуманенные звезды, казалось, притягивали его к жизни. Мало-помалу странное видение между существенностью и сном стало определеннее: черты обозначились яснее. Так это она точно, она, дочь профессора, которая с трепетным волнением стояла у изголовья раненого.
— Очнулся! — сказала она шепотом и покраснела до ушей. — Теперь я не должна здесь оставаться.
Бедная Шарлотта вздохнула.
Отец ее, стоявший за ней, посмотрел на раненого опытным взглядом знатока.
— Какой славный удар! — сказал он. — Какая ужасная винкелькварта! Бедный мой друг, если вам захочется супу, то пришлите ко мне.
Барон пролежал три месяца на кровати, и хотя соседка его не осмеливалась к нему войти, но везде была заметна ее нежная заботливость. Легкие кушанья, чистое белье, увеселительные книги, цветы, игрушки, все мелкие наслаждения, неизвестные холостой беспечности, присылались ежечасно от имени профессора и утешали раненого студента. Шарлотта была его невидимым провидением, и он невольно стал переносить к ее образу все нежные мечты своих продолжительных бессонниц. А она до того привыкла к своему попечительству, до того обрадовалась возможности приписать состраданию неясную наклонность своего сердца, что когда Фиренгейм оправился и пришел благодарить своих соседей, она почувствовала, что ей чего-то недоставало.
Утомленный студентским разгулом; молодой барон, к явной радости старика профессора, сел за книги и начал заниматься. Строгое прилежание и долгая болезнь скоро выгнали у него из головы его баронскую дурь. Он удостоверился, что подробности существенной жизни значительны и первостатейны только для малодушных людей, а что душевные совершенства лучше приятных форм. Забыв глупые предубеждения, он сблизился с профессором, полюбил его искренно, как отца, а к дочери его привык, как к сестре. Жизнь их была без особых событий и потому не могла раздуть пламени страсти; но они были сотворены друг для друга, и этого-то они не могли не понимать. С ней он занимался музыкой в часы отдохновения и с ней читал любимых поэтов; она любила Шиллера, он предпочитал Гете, и от этого разногласия нередко возникали довольно горячие споры, точь-в-точь как будто между детьми. Привычка их сроднила; но странно было, что, когда она была весела, он сердился; когда он начинал шутить, ей становилось грустно; но что когда они изредка соединялись в одном чувстве, то их сердцу было невыразимо весело и легко, а глазам хотелось плакать. Барон и этого не понял. Только каждый день, по неодолимому влечению, ходил он к соседям, глядел на Шарлотту, а потом возвращался домой и садился бодро за книги. Это время было самое счастливое в его жизни, и, быть может, оно исправило бы совсем его характер, если б новое обстоятельство опять всего не изменило.
Вдруг получил он известие об ожидаемом богатом наследстве. Он делался владельцем майората[17]. Присутствие его на месте было необходимо, академическая жизнь его оканчивалась.
Богатство, богатство! Рычаг нашего просвещения, нашей гражданской деятельности, нашего семейного счастия, нашей безрассудной жизни, если ты в ведении какого-нибудь демона, то много у этого демона и грехов и дурных мыслей на душе.
Барон начал укладываться уже с чувством холодного эгоизма. Отдаленный звук денег приятно отдавался в его слухе; мысль об отличиях и почестях заманчиво ему вторила. Он в два дня собрался к совершенному отъезду и простился со всеми своими знакомыми. Когда он объявил профессору о перемене своей судьбы и, прощаясь, благодарил его, старик был тронут; быть может, он не думал, что им надобно будет когда-нибудь расстаться. Шарлотты не было дома. Барон просил ей поклониться и сказал, что он вечно будет ее помнить. Она, казалось, умышленно избегала встречи и последнего разговора.
В немецких университетах есть трогательное обыкновение: когда студент отходит от своей братии на шумное поприще гражданской жизни, когда он навек прощается с своим студентским бытом, товарищи провожают его толпой через весь город медленным шагом и грустным хором поют ему во время шествия прощальную песнь.
В этой песне отзывается что-то похоронное, что-то сжимающее сердце, как стук земли, бросаемой в отверстую могилу. И точно, отходящий брат не хоронит ли своей молодости, своей юношеской беспечности, своей лучшей поэзии?.. Наступил день отъезда молодого барона. Так как его вообще любили, то с самого утра на главной площади, откуда должна была начаться процессия, стали сбираться студенты со всех сторон. Потом и отъезжающий, в последний раз одетый совершенным студентом, с пестрой шапкой на голове, явился в кругу своих товарищей. Двое из старейшин взяли его под руки и открыли шествие. Густая толпа двинулась за ними вслед, и плавное пение зазвучало по улицам грустными аккордами. Барон шел тихо… Много мыслей, много чувств теснилось в голове его. Из всех домов кланялись ему знакомые лица: трактирщик, который играл на контрабасе; педель, который призывал его к ректору; лавочник, который верил ему в долг; помещик, у которого он обедал, дамы, с которыми он танцевал, — все ему кланялись, все посылали рукой последнее приветствие, искреннее, добродушное желание успехов и счастия. И вдруг он поднял голову. Они подходили к дому профессора.
У окна стояла девушка в белом платье, как бы принарядившись для печальной церемонии. На щеках ее не было привычного румянца; руки ее, как бы лишенные жизни, опускались вдоль гибкого стана. Студент печально ей поклонился, но она не отвечала на поклон. Смертная бледность покрывала чело ее; глаза неподвижно вперялись в толпу, как бы желая остановить ее каким-нибудь чудом, и слезы градом катились без принуждения по ее безжизненному лицу.

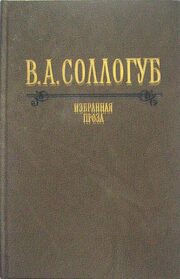
"Аптекарша" отзывы
Отзывы читателей о книге "Аптекарша". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Аптекарша" друзьям в соцсетях.