Как и тогда, в Кандии, он начал с ожесточением клясть свою участь. Она от него убежала, и пяти прошедших с тех пор лет оказалось достаточно, чтобы он потерял ее навсегда! Правда, судьба опять привела ее к нему, но лишь после того, как превратила в совсем иную женщину, в которой уже стерлось все то, что в свое время дал ей он.
Как узнать нежного эльфа из болот Пуату или даже трогательную рабыню из Кандии в этой суровой амазонке, самая речь которой стала ему непонятна? В ней пылает какой-то странный внутренний огонь, природу которого он никак не может постичь.
Он снова спрашивал себя, почему она так страстно желала спасти этих «своих» протестантов, почему с таким жаром просила за них, когда вдруг явилась к нему в тот первый вечер, растрепанная, упрямая, промокшая до нитки?
И при этом она вовсе не походила на несчастную жертву, сокрушенную жизнью. Будучи такою, она по крайней мере могла бы внушить ему жалость. Он бы понял, что только страх попасть в руки слуг короля — если правда, что за ее голову назначена награда, — заставил ее броситься к его ногам, чтобы молить его спасти жизнь ей и ее дочери.
Он бы принял ее куда лучше, предстань она перед ним малодушной, дрожащей от страха, низко павшей — только не такой, как сейчас: незнакомкой, в которой не осталось ничего от ее прошлого. Низко павшей… Но ведь она и в самом деле пала — ниже некуда. Женщина, которая столько лет шаталась Бог знает где, равнодушная к судьбе своих сыновей, и которую он нашел с внебрачным ребенком на руках, рожденным от неизвестного отца.
Итак, ей было недостаточно этой ее безумной одиссеи на Средиземном море, в которую она ринулась ради встречи с любовником. Всякий раз, когда он появлялся, чтобы вытащить ее из очередной переделки, она исхитрялась сбежать от него, очертя голову — и только для того, чтобы ввергнуть себя в еще большие опасности: Меццо-Мортеnote 22, Мулей Исмаил, побег из гарема в дикие горы Риф.., можно подумать, что ей доставляет удовольствие коллекционировать самые жуткие авантюры. Безрассудство, граничащее с глупостью. Увы, надо примириться с очевидностью — Анжелика глупа, как и большинство женщин. Казалось бы: вышла невредимой из всех передряг — вот тут бы и угомониться. Так нет же — бросилась поднимать восстание против короля Франции! Что за бес в нее вселился? Какой дух разрушения? Разве женщине, матери, подобает вести в бой войска? Неужели нельзя было тихо сидеть за прялкой в своем замке, вместо того чтобы лезть на рожон, отдавая себя на поругание солдатне? Или даже, на худой конец, продолжить свои амурные похождения в Версале, при дворе короля?
Никогда нельзя позволять женщинам самим управлять своей жизнью. Анжелика, к несчастью, не обладает той похвальной мусульманской добродетелью, которую он научился уважать — умением отдаваться иногда на волю судьбы и не противиться непобедимым силам Вселенной. Нет, Анжелике нужно самой направлять ход событий, предвидеть их и изменять по своему усмотрению. Вот он, ее главный изъян. Она чересчур умна для женщины!
Дойдя до этой мысли, Жоффрей де Пейрак обхватил голову руками и сказал себе, что ничего, абсолютно ничего не понимает ни вообще в женщинах, ни в своей собственной жене.
Великий учитель искусства любви Ле Шаплен, к чьему знаменитому трактату так любили обращаться трубадуры Лангедока, все же не сумел дать в нем ответы на все вопросы, ибо и он недостаточно знал жизнь. Вот и граф де Пейрак, хотя и перечитал горы книг, изучил философские доктрины и проделал за свою жизнь бесчисленное множество научных экспериментов, все-таки не смог постичь всего. Сердце человеческое — что не бывший в деле воск, каким бы всезнающим этот человек себя ни воображал…
Он осознал, что за последние несколько минут обвинил свою жену и в том, что она глупа, и в том, что чересчур умна, и в том, что она отдалась королю Франции, и в том, что боролась против него, и в том, что она постыдно слаба душой, и в том, что чрезмерно сильна и деятельна, — и вынужден был признать, что весь его картезианский рационализм, который ему так нравилось считать своей жизненной философией, в конечном счете оказался бессилен и что он со всем своим здравым мужским умом не способен разобраться в себе самом.
Он не чувствовал ничего, кроме ярости и горя.
Вопреки всякой логике то насилие, которому ее подвергли, представлялось ему наихудшим из предательств, ибо громче всего в нем говорили сейчас ревность и первобытный инстинкт собственника. Его возмущенное сердце кричало: «Неужели ты не могла жить так, чтобы сохранить себя для меня?!»
Если уж сам он был повержен судьбой и не мог ее защитить, пусть бы, по крайней мере, вела себя осмотрительно, а не рвалась навстречу опасностям.
Только сегодня он сполна изведал всю горечь своего поражения. Vae victisnote 23.
И ему впервые стало понятно, почему некоторые дикие африканские племена нарочно обезображивают своих женщин, заставляя их подвешивать к губам тяжелые медные диски, — потому что тогда победителям, которые этих женщин уведут, достанутся только гадкие уродины…
Анжелика слишком красива, слишком обольстительна. И она становится еще опаснее, когда не стремится обольщать, и сила ее взгляда, голоса, жестов просто изливается сама собой, как вода в роднике.
Самое опасное кокетство, ибо против него нет оружия!..
— Извините меня, монсеньор…
Перед ним стоял его друг, капитан Язон.
— Я постучал несколько раз, решил, что вас нет и вошел…
— Да, я вас слушаю.
Как бы ни был велик охвативший его гнев, Рескатор, этот безупречный капитан, никогда не позволял себе его выказывать. Те, кто его очень хорошо знали, могли догадаться о его внутреннем напряжении только по его взгляду — обычно веселый или пылкий, он вдруг менялся, становясь грозным и застывшим.
Язон уловил перемену в настроении хозяина. Что ж, причины на то есть, подумал он, и их даже слишком много. Все на корабле идет не так! Того и гляди, где-нибудь рванет — и ничего уже тут не попишешь. Пусть бы лучше это случилось поскорее — тогда все же наступит хоть какая-то ясность, и дело можно будет поправить, прежде чем все окончательно рухнет.
Второй капитан угрюмо показал рукой на громадный узел, который сопровождавшие его матросы положили на пол, после чего сразу же ушли.
Из старого, вытканного из верблюжьей шерсти одеяла на ковер вывалилась невероятная смесь самых разнообразных предметов. Необработанные алмазы с тусклым смолистым блеском и рядом — дешевые стеклянные пробки от графинов, примитивные золотые украшения, издающий зловоние бурдюк из козлиной шкуры с остатками пресной, давно протухшей воды, замусоленный, слипшийся от сырости Коран, к которому был привязан амулет.
Жоффрей де Пейрак нагнулся, поднял кожаный мешочек с амулетом и открыл его. В нем было немного мускуса из Мекки и сплетенный из шерсти жирафа браслет с двумя брелками — зубами рогатой гадюки.
— Я помню тот день, когда Абдулла убил эту гадюку. Она ползла ко мне… — задумчиво проговорил он. — И вот что я подумал…
— Да, да, конечно, — вдруг перебил хозяина Язон, пренебрегая морскими обычаями и дисциплиной. — Я велю повесить амулет ему на грудь и зашить тело в самую красивую джеллабу.
— Вечером, когда стемнеет, его опустят в море. Хотя душа Абдуллы была бы куда счастливее, если бы его предали земле…
— Оно, конечно, верно, но даже и такие похороны — все же какое-никакое утешение для его собратьев-мусульман. Они-то думают, что раз мы его повесили, то, значит, и с мертвым поступим, как с подохшей собакой.
Жоффрей де Пейрак пристально взглянул на своего помощника. Изрытое оспой лицо, угрюмо сжатые губы. Глаза холодные и непроницаемые, точно два агата. С этим коренастым неразговорчивым человеком он проплавал вместе десять лет…
— Экипаж ропщет, — сказал Язон. — О, конечно, смута идет не столько от старых матросов, что плавали с нами еще на Востоке, сколько от новичков, особенно от тех, которых нам пришлось нанять в Канаде и Испании, чтобы укомплектовать команду. Сейчас у нас почти шестьдесят человек. И держать в руках такой сброд ох, как трудно. Тем более, что они хотят непременно дознаться, каковы ваши планы. Еще они жалуются, что стоянка в Кадисе была намного короче, чем им обещали, и что они так и не получили своей доли испанского золота, которое наши ныряльщики-мальтийцы подняли со дна у берегов Панамы… И наконец, они заявляют, что вы запрещаете им попытать счастья у плывущих на корабле женщин, зато сами прибрали к рукам самую красивую…
Этот последний тяжкий упрек, произнесенный особенно мрачно и серьезно, заставил хозяина «Голдсборо» рассмеяться.
— Потому что она и впрямь самая красивая, не правда ли, Язон?..
Он знал, что этот смех окончательно выведет из себя его помощника, которого ничто на свете не могло развеселить.
— Так она самая красивая? — насмешливо повторил он.
— Не знаю, черт ее дери! — в ярости рыкнул Язон. — Я знаю только одно: на корабле творятся дурные дела, а вы ничего не замечаете, потому что одержимы этой женщиной.
Граф де Пейрак вздрогнул и, оборвав смех, нахмурился.
— Одержим? Разве вы, Язон, когда-нибудь видели, чтобы я терял голову из-за женщины?
— Из-за какой-нибудь другой — нет, не видел. Но из-за этой — да! Разве мало глупостей вы натворили из-за нее в Кандии, да и потом тоже? Сколько бессмысленных хлопот, чтобы заполучить ее обратно! И сколько выгодных сделок вы провалили только потому, что любой ценой хотели отыскать ее и не желали думать ни о чем другом!
— Но согласитесь, что это вполне естественно — попытаться вернуть рабыню, которая обошлась тебе в тридцать пять тысяч пиастров.
— Нет, тут дело было в другом, — стоял на своем Язон. — В чем-то таком, о чем вы мне никогда не рассказывали. Ну да все равно! Это дело прошлое. Я думал, что она сгинула безвозвратно, навсегда, умерла и давно сгнила в земле. И вдруг на тебе — объявилась опять!
— Язон, вы неисправимый женоненавистник. Только потому, что шлюха, на которой вы имели глупость жениться, отправила вас на галеры, чтобы спокойно крутить амуры со своим любовником, вы возненавидели весь без исключения женский род и из-за этого упустили немало удовольствий. Сколько несчастных мужей, прикованных к унылым мегерам, позавидовали бы вашей новообретенной свободе, а вы ею так плохо пользуетесь!

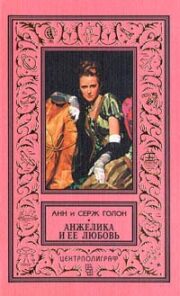
"Анжелика и её любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Анжелика и её любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Анжелика и её любовь" друзьям в соцсетях.