Она попыталась вырваться.
«Мы все сходим с ума на этом судне», — подумала она в отчаянии.
Ночь укрывала их от чужих взглядов, движения Берна были осторожны и бесшумны, но Анжелика чувствовала, что он с молчаливым упорством одолевает ее.
Она еще раз рванулась, ощутила на своей щеке прикосновение его ладони и, повернув голову, впилась в нее зубами. Он попытался отдернуть руку, а когда это ему не удалось, глухо зарычал:
— Бешеная сука!
Рот Анжелики наполнился кровью. Когда она наконец разжала челюсти, он скорчился от боли.
— Подите прочь, — выдохнула она. — Оставьте меня сейчас же… Как вы посмели? В двух шагах от детей!
Он исчез в темноте.
Спящая в своем гамаке Онорина перевернулась на другой бок. В заслонку порта тихо плеснула волна. Анжелика перевела дух. «В конце концов эта ночь пройдет, настанет новый день», — подумала она. Когда много горячих людей не по доброй воле оказываются вместе в тесной дубовой тюрьме под парусом, несущей их всех навстречу неизвестности, — столкновения неизбежны, и ничего тут не поделаешь. Разум Анжелики успокаивался быстрее, чем ее тело. Она все еще не остыла и не могла забыть, что, когда проснулась, ее разбирало желание.
Она ждала мужчину. Но не этого. Тот, кого она любила, был с нею разлучен, и во сне она протягивала к нему руки. «Прижми меня к себе… Спаси меня, ты же такой сильный… Почему я потеряла тебя? Если ты оттолкнешь меня, я умру!»
Она тихонько бормотала эти слова, наслаждаясь восхитительным жаром вновь обретенных желаний. Как могла она быть с ним такой холодной? Разве так ведет себя любящая женщина? Он тоже мог подумать, что она его больше не любит. Но во сне она узнала его губы.
Поцелуи Жоффрея! Как могла она их забыть? Она вспомнила, как была ошеломлена, когда он поцеловал ее впервые, и как погрузилась в незнакомое ей прежде блаженное беспамятство. Еще долго она, совсем юная в ту пору женщина, предпочитала это сладкое головокружение неге обладания. Лежа в его объятиях, сливаясь с ним в поцелуе, она испытывала блаженство полного растворения в любимом, это неизъяснимое блаженство, которое мужчина дарит любящей его женщине.
Позже ни одни мужские губы не могли доставить ей подобного наслаждения. Поцелуй был для нее чем-то столь интимным, что ей казалось — она не вправе разделить его ни с кем, кроме Жоффрея. В крайнем случае она соглашалась принять его лишь как необходимое вступление к дальнейшему.
От поцелуев, которые срывали с ее уст, она спешила поскорее перейти к тому, что завершает любовный обряд, к утехам, в которых была горяча и искусна. Любовники приносили ей наслаждение, но ни один из их поцелуев она не могла бы вспомнить с удовольствием.
Всю жизнь, сама того почти не сознавая, она хранила память о тех ни с чем не сравнимых поцелуях, жадных, упоительных, которыми они, смеясь и никогда не пресыщаясь, обменивались в те далекие времена в Тулузе.., и которые сон, приоткрывающий многие завесы, чудесным образом вернул ей сейчас.
Глава 22
Серым утром, когда к потолку потянулся дым от погашенных свечей, он вдруг вошел в твиндек, как всегда в маске, мрачный и неприступный человек из железа.
Его внезапное появление встревожило пассажиров. Они едва очнулись от тяжелого сна и чувствовали себя измотанными от беспрестанной качки. Им было холодно. Замерзшие дети кашляли и клацали зубами.
Рескатор явился не один — его окружали вооруженные мушкетами матросы. Обведя эмигрантов взглядом, который казался еще более пронзительным из-за того, что глаза смотрели из прорезей маски, он сказал:
— Прошу всех мужчин собраться и выйти на палубу.
— Что вам от нас надо? — спросил Маниго, застегивая помятый камзол.
— Сейчас узнаете. Соблаговолите собраться вон там.
Рескатор двинулся между рядами пушек, внимательно вглядываясь в расположившихся возле них женщин. Дойдя до Сары Маниго, он вдруг оставил обычное свое высокомерие и отвесил ей учтивый поклон.
— Вы, сударыня, также весьма меня обяжете, если соблаговолите пройти с нами. И вы тоже, сударыня, — добавил он, повернувшись к госпоже Мерсело.
Этот выбор и сопровождавшие его церемонии смутили даже самых смелых.
— Хорошо, я пойду, — решилась госпожа Маниго, запахивая на груди черную шаль. — Но мне хотелось бы знать, что за сюрприз вы нам приготовили.
— Должен подтвердить вашу догадку, сударыня: ничего приятного, и более всех этим удручен я сам. Тем не менее, ваше присутствие необходимо.
Еще он остановился около тетушки Анны и около Абигель, жестом приглашая их присоединиться к группе пассажиров-мужчин, которые ждали в окружении вооруженных матросов.
Потом он подошел к онемевшей от страха Анжелике. На этот раз его поклон был еще ниже, а улыбка еще ироничнее.
— И вас, сударыня, я тоже покорнейше прошу последовать за мной.
— Что случилось?
— Пойдемте со мной, и ваше любопытство будет удовлетворено.
Анжелика повернулась к Онорине, чтобы взять ее на руки, но он встал между ними.
— Нет, на палубе не должно быть детей. Поверьте мне, это зрелище не для них.
Онорина заревела во весь голос. И тут случилось неожиданное. Рескатор сунул руку в кошель, висевший у него на поясе, достал оттуда сверкающий синий сапфир, крупный, как лесной орех, и протянул его девочке. Покоренная Онорина вмиг умолкла. Она схватила сапфир, и уже не замечала ничего вокруг.
— А вы, сударыня, — снова обратился он к Анжелике, — идите наверх и не думайте, что настал ваш последний час. Вы вернетесь к своей дочери очень скоро.
На палубе, на баке, собрался весь экипаж. Каждый был одет на свой вкус и среди многоцветья одежд четко выделялись яркие кушаки и головные платки южан и шерстяные шапки северян-англосаксов, на многих из которых были также меховые безрукавки. Рядом с веснушчатыми, белобрысыми англичанами еще более темнокожими казались два негра и араб. Однако боцман и старшины всех команд марсовых были на сей раз одеты одинаково, в обшитые золотым галуном красные камзолы, и эта форма подчеркивала, что они тут начальники — унтер-офицеры.
Меднокожий индеец, стоящий рядом с волосатым, бородатым Никола Перро, довершал эту пеструю картину человеческих рас, которой никто бы не отказал в живописности.
Анжелика никогда бы не подумала, что экипаж «Голдсборо» так многочислен. Чаще всего матросы были рассыпаны по реям и вантам, и она привыкла видеть на фоне неба только их силуэты, с обезьяньей ловкостью снующие в высоком лесу мачт, рей и парусов. Там, в своих владениях, они хохотали, перекликались друг с другом, пели, но все эти звуки проносились над головами пассажиров, не привлекая их внимания.
Спустившись с высот, матросы явно чувствовали себя не в своей тарелке на палубе, хотя она тоже качалась. Они утратили поражающую воображение акробатическую ловкость «тех, что на парусах» и сделались вдруг скованными и неуклюжими. Теперь стало заметно, что в их лицах есть нечто общее — выражение у всех было скорее строгое, чем веселое, глазам — и темным, и светлым — был присущ особый блеск, отличающий тех, кто привык настороженно вглядываться в горизонт в ожидании опасности, а надбровные дуги несколько выступали вперед, словно защищая глаза от яркого солнца.
Анжелика чувствовала, что ее спутницы так же неприятно поражены видом экипажа, как и она сама. Одно дело видеть весельчаков-матросов, прогуливающихся по пристаням Ла-Рошели, и совсем другое — увидать их посреди пустынных просторов океана, где они оторваны от всех земных радостей и потому становится очевидным то, чего не замечаешь на суше, — что эти мужчины намного суровее и жестче тех, кто каждый день встречается на улицах с женщинами и детьми, а вечерами греется у домашнего очага. Оказавшись с моряками лицом к лицу, гугенотки ощущали одновременно жалость и страх. Перед ними были люди иной, чем они, породы. Эти матросы почитали за ценность только свое морское ремесло, и все живущие на суше были для них совершенными чужаками.
Ветер развевал широкий плащ Рескатора. Он стоял немного впереди своих матросов, и Анжелика подумала, что он хозяин всех этих странных и чужих людей, что он сумел подчинить себе этих строптивых упрямцев и понять их сумрачные души, обитающие в топорно скроенных телах.
Какой же властью нужно обладать: над жизнью, над стихиями, над самим собой, чтобы внушить уважение этим сорвиголовам, этим заблудшим сердцам, этим дикарям, враждующим со всем светом?
Все молчали. Слышалась только могучая симфония ветра, играющего на струнах снастей. Матросы стояли, потупив глаза, словно окаменевшие от некоего общего тягостного чувства, причина которого была ведома им одним. В конце концов эта подавленность передалась и протестантам, сгрудившимся на другом краю палубы, около фальшборта.
Именно к ним повернулся Рескатор, когда наконец заговорил.
— Господин Мерсело, вчера вечером вы требовали наказать того, кто оскорбил вашу дочь. Вы будете удовлетворены. Правосудие свершилось.
Он показал рукой вверх, и все подняли головы. По толпе гугенотов пронесся ропот ужаса.
В тридцати футах над ними, на рее фок-мачты тихо покачивалось тело повешенного. Это был мавр.
Абигель закрыла лицо руками. По знаку Рескатора матросы отпустили ручку ворота, веревка, на которой висел казненный, быстро размоталась, и он, упав на середину палубы, остался лежать там, неподвижный, бездыханный.
Из-под распухших, слегка приоткрытых губ мавра Абдуллы блестели белые зубы. Таким же мертвым перламутровым блеском отсвечивали и белки его полузакрытых глаз. Расслабленное тело лежало в позе столь естественной, что казалось, будто он спит, однако его кожа уже приняла сероватый оттенок смерти. От вида этой нагой безжизненной плоти всех зрителей, стоящих на холодном утреннем ветру, пробирала дрожь.
Анжелика вновь увидела мысленным взором, как голый Абдулла простирается ниц у ног хозяина, сокрушенный сознанием своей вины, снова услышала его хриплый голос, бормочущий по-арабски: «Я поднял на тебя руку, и твоя рука покарает меня. Хвала Аллаху!»

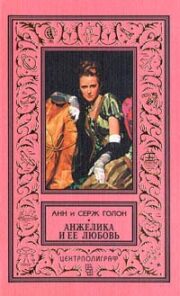
"Анжелика и её любовь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Анжелика и её любовь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Анжелика и её любовь" друзьям в соцсетях.