Это была ужасная мысль.
— Извини, — он упирался коленями в переднее кресло, — но здесь мало места.
— Ну и что же, соберись и думай об Англии, — велела я.
Я сильнее, чем когда-либо, пожалела, что пришла вместе с Робином. Каждый раз, когда я уже была готова отдаться очарованию этого вечера, назойливое присутствие коллеги мешало мне.
К счастью, свет начал гаснуть, зал, как это всегда бывает, постепенно затих, и даже Робин перестал ерзать.
Я не знала содержания пьесы, и, когда на сцене появились жители города и спектакль начался, мне пришло в голову, что Кориолан может и не появиться в первом акте. В диалогах постоянно упоминался какой-то вероломный изменник по имени Кай Марций, говорили о его многочисленных пороках, а я уже отчаялась увидеть Финбара. Понимаю — авторы времен Елизаветы предпочитали, чтобы тон в пьесе задавала группа простолюдинов, но, признаюсь честно, если вы испытываете страсть к главному герою, такое поэтическое изящество может показаться вам унылым. Горожане, постоянно упоминая голодный живот, давали понять вполне ясно, что с Каем Марцием, кем бы он ни был, они идут разными дорогами; невразумительно сравнивали себя с большими пальцами, а вот имя Кориолан не прозвучало ни разу. Все это показалось мне достаточно трудным для понимания, и я начала нервничать. Но вдруг — это случилось внезапно, и от потрясения у меня перехватило дыхание — появился он: возвышаясь над толпой и гневно сверкая глазами, стоял, не двигаясь, Кай Марций. Он — Кориолан, а Кориолан — это Финбар Флинн.
Вот она, сила искусства. И было совсем не важно, что я не знала содержания пьесы: достаточно было увидеть его, стоящего на сцене, чтобы понять: этот человек — Хозяин их мира — Герой, Честолюбивый воин, Враг мелочности, Могущественный тиран. Он приковал к себе все внимание, этот Финбар Флинн, — и был настолько далек от образа семейного мужчины, как Зевс-громовержец — отпрачечной самообслуживания. Я услышала, что даже Робин рядом со мной тяжело задышал, и, словно сидя в кресле у стоматолога, схватила его за руку и крепко сжала. Он тихонько вскрикнул и отнял у меня руку. В том, что мне предстояло пережить все самой, не было ничего хорошего.
В изумлении я смотрела на сцену. Человек, стоявший сейчас наверху, не мог лежать обнаженным в постели рядом со мной. «Этого человека, — думала я, окончательно теряя рассудок, — я не могла напоить». Далила и Самсон, — да, возможно, но этот мужчина и Джоан Баттрем? Немыслимо.
Он был так близко, что достаточно было бросить на сцену программку, чтобы привлечь его внимание… или позвать по имени, — он услышал бы. Мне всерьез захотелось сделать это, и я забеспокоилась. Необходимо было взять себя в руки. До некоторой степени мне это удалось, я мысленно сковала руку, бросающую программку, мысленно приклеила себя к креслу и по-настоящему закрыла рукой рот, чтобы внезапно не окликнуть Финбара.
— Ну, а сейчас чье кресло скрипит? — вдруг спросил Робин.
Цветок примулы, не пережив моего волнения, упал мне на колени, и я начала методично обрывать у него лепестки: «Любит, не любит, любит, не любит…»
Но я ни разу не отвела глаз от сцены. В самом деле, если вспомнить, это была потрясающая, виртуозная игра. Для меня на сцене был он один, и вся пьеса «Кориолан» — мне жаль в этом признаваться — с тем же успехом могла бы быть монологом.
Финбар появился на сцене с непокрытой головой, черные кудри блестели, как будто смазанные маслом, черты лица — словно выточены из камня. Он смотрел сверху вниз на недовольных плебеев и казался надменным, жестоким гордецом. («Удивительно, — подумала я, — как там писала Сильвия Плат? Что-то насчет того, что любая женщина обожает фашиста». До того момента я считала эту фразу иронической.) И, как будто всего этого было недостаточно, Финбар был одет в то же самое шикарное белое пальто. По жестам и манере исполнения я узнала сцену, показанную на столе в патио соседей, — неудивительно, что зрители со свечами были так потрясены той ночью, и вполне понятно, почему Джеральдина отдала должное его актерскому мастерству. Даже если Финбар играл не гениально, он был настолько близок к гениальности, что все остальное не имело значения. Он замечательный актер от природы, и, наблюдая за ним, я испытывала настоящее блаженство, которое могут чувствовать только наиболее привилегированные из нас, поклонниц знаменитости. Да, я отказалась от пятого измерения и своего одинокого пути ради него, и что же из этого? Следующие полтора часа послужили достаточным оправданием мне. Даже если бы я в нем нуждалась. К моменту окончания первого действия мое сердце принадлежало ему, и это приводило меня в восторг.
Слово «перерыв» было бы более точным определением, чем «антракт». Я чувствовала себя так, как будто меня протерли через сито, а потом отправили играть в регби за команду Уэльса. Когда в зале зажегся свет, я удивленно оглянулась на зрителей: они поднимались, зевали, потягивались, болтали, направлялись в сторону выходов к буфету — очевидно, их не захватила трагедия первого действия. Казалось, я единственная в этом зале не могла двигаться.
— Неплохо, да? — спросил Робин, с шумом вставая из кресла.
Надо же до такой степени недооценивать происходящее! Все равно что назвать битву при Пасхендале дракой. А я ведь успела забыть о его присутствии.
— Пойдем, выпьем что-нибудь и разомнемся?
— Нет, спасибо, — сказала я, перебирая крошечные лепестки на коленях, — думаю, я побуду в зале.
Он снова сел:
— Тогда и я побуду.
Я встала:
— Пожалуй, я все же выйду.
— Решайся, наконец, — сказал он и направился за мной к выходу.
Что ж, по крайней мере было одно место, куда он не мог меня сопровождать.
Так и не оправившись от потрясения, я стояла в длинной очереди желающих посетить туалет, там по крайней мере было тихо: лишь изредка слышались журчание спускаемой воды и шорох натягиваемых колготок. Потом дама из очереди, примерно за три полных мочевых пузыря до меня, сказала своей подруге: «Правда он великолепен? Он мог бы разуться у моей постели в любой момент, когда пожелает». На что ее подруга ответила: «Не думаю, дорогая, что ты могла бы его заинтересовать».
Поскольку «дорогая» была страшна как смерть (понимаю, понимаю, что совершаю преступление против женской солидарности, но она первая начала), я подумала, что ее подруга права. Будет ли Финбар Флинн любить меня, когда я состарюсь и утрачу красоту, ведь он, как и сейчас, всегда сможет выбирать из самых красивых и самых юных? Все, что у меня было, — эксцентричность и неплохая внешность. Что произойдет, когда останется только эксцентричность? Я развернулась и ушла из туалета, пожертвовав тихим и спокойным пребыванием в кабинке: прогнозам на будущее не было места в очаровании сегодняшнего вечера.
И я отправилась назад, к Робину.
— Все говорят, что это огромный успех, — сообщил он. Он напомнил мне персонажа возобновленной постановки Ноэля Кауарда, и это само по себе было настолько ужасно, что он мог бы и не продолжать. — Судя по всему, Финбар очаровал сегодня всех своей игрой и кудрями…
Я больше не буду упоминать о влиянии Лоуренса на манеру Робина изъясняться, потому что знаю — все это фальшь. Но последняя фраза вкупе с комментариями двух желающих посетить дамскую комнату заставила меня содрогнуться. Возможно, во мне заговорил древний инстинкт? Стремление защитить собственность?
Я сунула бокал, к которому даже не притронулась, в руку Робина и отправилась на свое место, чтобы подождать начала в тишине. Как и прежде, вмешательство посторонних вывело меня из равновесия. Я предпочитала хранить свою любовь в тайне. Одного вздоха достаточно, чтобы разрушить такое счастье. Не следует никому о нем рассказывать.
Когда пьеса закончилась, восторгам зрителей не было предела. Мои ладони болели от аплодисментов, а полуобнаженный, запачканный кровью антигерой пьесы воскрес как раз вовремя, чтобы выводить своих коллег на поклоны. Откровенно говоря, в самом конце во время чрезвычайно напряженного боя на мечах между Кориоланом и Авфидием я очень волновалась. Вспомнив о своей роли в срыве репетиции, я испугалась и в ходе боя решила, что если Кориолан выйдет из него невредимым, то я больше никогда не буду есть шоколад, парковать машину на двойной желтой полосе и нарушать моральные нормы. Я уткнулась носом в плечо Робина и лишь чуть-чуть подглядела в конце, а в финале, когда Финбар упал и умер, я вытирала слезы. Я ненавидела Авфидия. И позже, когда мы хлопали и кричали «Браво!», а Финбар внезапно взял за руку своего былого противника и вышел вместе с ним на поклон, боюсь, я засвистела.
— Джоан, — сказал Робин, — прекрати, все смотрят.
— О, к черту всех, — крикнула я. — Ура, ура! Он сделал это! Он сделал это… — Я подпрыгивала в кресле, и лепестки примулы летели во все стороны, — теперь они были окончательно мертвы, как и подобало моменту.
Внезапно я осознала, что Робин смотрит на меня со смешанным выражением удивления и неприязни. На мгновение я посмотрела на себя его глазами: обезумевшая женщина, которая переполнена эмоциями и разбрасывает по всему залу сморщенные лепестки. А поскольку я не могла придумать, как заставить его отвести взгляд, то показала язык. Бедняга моргнул, как будто я ударила его.
— Ура! Ура! Ура! — медленно и отчетливо произнесла я снова, глядя на него. Потом подпрыгнула в кресле еще несколько раз и, протянув руку, ущипнула Робина за нос. — И еще раз ура!
— Прекрати, — сказал он, убирая мою руку.
— Ладно, а ты прекрати так смотреть на меня. В чем дело? Ты разве не видел, как люди радуются? Я уверена, в Канаде твоему Лоуренсу кричали «ура!».
Он потер нос. И продолжал смотреть на меня. Все зрители уже направлялись к выходу, но мы оставались на местах.
— Ну? — спросила я и подпрыгнула еще один или два раза, как ребенок, которому сказали сидеть тихо.

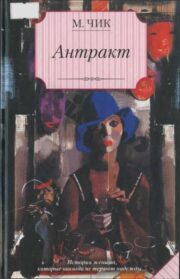
"Антракт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Антракт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Антракт" друзьям в соцсетях.