– Мое имя Джон Ольдинг. Я землепашец и живу в Теддз-Голе. Две мили за Стонитоном. На прошлой неделе в понедельник, около часа пополудни, я шел в геттонский лесок и, не доходя за четверть мили до леска, увидел обвиненную в красном салопе, сидевшую у стога сена неподалеку от забора. Она встала, когда увидела меня, и показала вид, будто идет другой дорогой. Дорога была обыкновенная, полем, и вовсе не было странно видеть там молодую женщину, но я обратил на нее внимание, потому что она была бледна и казалась испуганной. Я подумал бы, что это нищая, только для нищей у нее были слишком хороши платья. Она показалась мне несколько сумасшедшею, но мне не было никакого дела до этого. Я остановился и посмотрел ей вслед, но она шла все прямо, пока была у меня в виду. Мне нужно было идти к другой стороне леска, чтоб нарубить кольев; туда вела также прямая дорога, местами встречались отверстия, где были срублены деревья. и некоторые из них не были свезены. Я не пошел прямо по дороге, а повернул к средине и взял кратчайшую дорогу к тому месту, куда мне нужно было сходить. Едва я прошел несколько шагов по дороге на одном из открытых мест, как услышал странный крик. Крик этот не походил на крик какого-нибудь из известных мне животных, но в то время мне не хотелось остановиться, чтоб посмотреть, что это такое. Но крик продолжался и казался мне таким странным в этом месте, что я невольно остановился и посмотрел вокруг себя. Мне пришла в голову мысль, что я, пожалуй, получу деньги, если это был какой-нибудь необыкновенный зверек. Но мне трудно было узнать, откуда раздавался крик, я стоял долгое время, смотря на ветви. Потом мне казалось, что крик раздавался с земли, где лежали щепки, куски дерна да несколько пней. Я порылся в этой кучке, но не мог ничего найти; наконец крик прекратился. Тут я решился отказаться от своего намерения и пошел по своему делу. Но когда час спустя я возвращался той же самой дорогой, то невольно положил свои колья на землю и хотел еще раз порыться. В то самое время, как я нагнулся и клал колья, я увидел, что неподалеку от меня на земле, под орешником, лежало что-то странное, круглое и беленькое. Я опустился на руки и на колени, намереваясь поднять это. Тут я увидел, что это была ручка крошечного ребенка…
При этих словах по всей зале пробежал трепет. Хетти дрожала всем телом; теперь впервые она, казалось, вслушивалась в то, что говорит свидетель.
– В том самом месте, где земля была пуста, лежала кучка щепок, как под кустарником, и ручка торчала из-под них. Но в одном месте было оставлено отверстие, и я мог смотреть туда и увидел голову ребенка. Я тотчас же разрыл кучку, разбросал дерн и щепки и вынул ребенка. На нем было хорошее и теплое белье, но тело было уже холодно, и я думал, что он умер. Я бросился бежать с ним по лесу и принес его домой к жене. Она сказала, что ребенок умер и что лучше было бы мне снести его в приходский приют и объявить о случившемся констеблю. Я сказал: «Готов лишиться жизни, если этот ребенок не той молодой женщины, которую я встретил, когда шел в лесок». Но она, казалось, совсем исчезла. Я снес ребенка в геттонский приходский приют и объявил констеблю; с ним мы отправились к судье Гарди. Потом мы пошли отыскивать молодую женщину и искали до вечерних сумерек, потом дали знать в Стонитон, чтоб ее остановили там. На другой день пришел ко мне другой констебль и требовал, чтоб я показал ему место, где нашел ребенка. Когда же мы пришли туда, то там сидела обвиненная, прислонясь к кустарнику, где я нашел ребенка. Она вскрикнула, когда увидела нас, но не обнаружила ни малейшего желания бежать. У нее на коленях лежал огромный кусок хлеба.
У Адама вырвался слабый стон отчаяния в то время, как говорил свидетель. Он опустил голову на руку, опиравшуюся на перила перед ним. То был высший момент его страдания: Хетти была виновна, и он безмолвно молил Бога о помощи. Он не слышал более никаких свидетельств, не сознавал, когда кончилось самое делопроизводство, не видел, что мистер Ирвайн находился в ложе свидетелей и говорил о незапятнанном характере Хетти в ее родном приходе и о добродетельных обычаях, в которых она выросла. Это свидетельство не могло иметь никакого влияния на приговор, но оно отчасти допускало испрошение помилования, что сделал бы и адвокат обвиненной, если б ему позволено было говорить за нее. Преступники еще не пользовались такою милостью в те суровые времена.
Наконец Адам поднял голову, потому что вокруг него произошло общее движение. Судья обратился к присяжным, и они удалились. Решительная минута была уже недалека. Адам чувствовал трепет и ужас, не позволившие ему смотреть на Хетти, но последняя давно уже впала в свое холодное, упорное беспристрастие. Все взоры были устремлены на нее с напряженным вниманием, но она стояла как статуя мертвого отчаяния.
В этот промежуток времени раздавался по всей зале шорох, шепот и тихое жужжание. Все пользовались временем, когда нечего было слушать, для того чтоб выразить вполголоса чувство или мнение. Адам сидел, тупо смотря перед собою, но не видел предметов, находившихся у него прямо перед глазами: адвоката и стряпчих, разговаривавших между собою с холодным деловым видом, и мистера Ирвайна, занятого важным разговором с судьей; он не видел, как мистер Ирвайн снова сел на свое место, в волнении, и грустно качал головою, когда кто-нибудь обращался к нему вполголоса. Внутренняя деятельность Адама была так сильна, что не могла принимать участия во внешних предметах, пока его не пробудило сильное ощущение.
Прошло немного времени, едва ли более четверти часа, как удар, возвещавший, что присяжные положили свое решение, послужил признаком молчания для всех. Величественно это внезапное безмолвие многочисленной толпы, возвещающее, что одна душа движется во всех. Безмолвие, казалось, становилось все глубже и глубже, подобно слушающемуся ночному мраку, в то время как вызывали присяжных по именам, как обвиненную заставили поднять руку и спросили присяжных о их приговоре.
«Виновна».
Все ожидали этого приговора, но за ним последовал не один вздох обманутого ожидания, что приговор не был сопровождаем испрошением помилования. Несмотря на то, зала не имела сочувствия к обвиненной: бесчеловечность ее преступления выдавалась гораздо резче при ее жесткой неподвижности и упорном молчании. Самый приговор для отдаленных взоров, казалось, не трогал ее; но те, которые находились ближе, видели, что она дрожала.
Тишина, однако ж, сделалась менее сильною, пока судья не надел черной шапочки, а за ним показался капеллан в облачении. Тогда снова воцарилось прежнее безмолвие, прежде чем экзекутор успел сказать, чтоб все замолчали. Если и слышался какой-нибудь звук, то, должно быть, звук бьющихся сердец. Судья провозгласил:
– Гестер Соррель…
Кровь бросилась в лицо Хетти, и затем снова отхлынула, когда она взглянула на судью и, как бы под очарованием страха, остановила на нем свои широко раскрытые глаза. Адам еще не оборачивался к ней: их разделял друг от друга глубокий ужас, подобно неизмеримой пропасти; но при словах: «И потом быть повешенной за шею, пока наступит смерть», – раздиравший душу крик огласил все здание. То был крик Хетти. Адам содрогнулся всем телом и протянул к ней руки, но его руки не могли достичь ее: она упала без чувств, и ее вынесли из залы.
XLIV. Возвращение Артура
Когда Артур Донниторн вышел на берег в Ливерпуле и прочел письмо своей тетки Лидии, коротко извещавшей его о смерти деда, его первое ощущение выразилось так:
– Бедный дедушка! Я желал бы быть подле него в то время, как он умер. Он, может быть, чувствовал что-нибудь или желал под конец чего-нибудь, чего я теперь никогда не узнаю. Смерть застала его одиноким.
Невозможно сказать, чтоб его печаль была глубже этого. Сожаление и смягченные воспоминания заменили прежнее неудовольствие, и Артур, озабоченный мыслями о будущем, в то время как коляска быстро везла его домой, где он теперь будет помещиком, беспрестанно делал усилие, чтоб припомнить что-нибудь такое, чем он мог бы доказать уважение к желаниям своего деда, не противодействуя своим собственным любимым притязаниям для блага арендаторов и имения. Но это было бы не в человеческой природе, это было бы только человеческим притворством, чтоб такой молодой человек, как Артур, с здоровым сложением, бодрый духом, имевший хорошее мнение о себе и питавший пламенное намерение представлять людям еще более оснований к этому хорошему мнению, невозможно, чтоб такой молодой человек, только что вступавший во владение великолепным имением, благодаря смерти весьма старого человека, к которому он не был привязан, чувствовал что-нибудь другое, а не торжествующую радость. Теперь начиналась его действительная жизнь, теперь у него было место и случай для деятельности, и он воспользуется ими. Он докажет жителям Ломшейра, что такое образцовый деревенский джентльмен; он не променяет эту карьеру ни на какую-либо из всех карьер под луною. Он воображал, что едет по холмам в свежие осенние дни надзирать за исполнением своих любимых планов касательно осушения почвы и постройки изгородей, потом, что в пасмурное утро на него смотрят с восторгом как на лучшего всадника на лучшем коне на охоте, что о нем отзываются хорошо в рыночные дни, как об образцовом помещике, что он со временем будет произносить речи за обедами при выборах и выскажет удивительные познания в земледелии, что он становится патроном новых плугов и сеялок, строгим порицателем беззаботных землевладельцев и вместе с тем веселым малым, которого нельзя не полюбить, что ему кланяются счастливые лица всюду в его имении и все соседние фамилии находятся в наилучших отношениях с ним. Ирвайны будут обедать у него еженедельно, будут иметь собственную карету, чтоб приезжать к нему; каким-нибудь весьма деликатным способом, который Артур придумает впоследствии, светский владелец геслонской десятины будет настоятельно требовать, чтоб викарию выплачивали сотни две-три фунтов более. Его тетка будет жить как только можно спокойнее, останется на Лесной Даче, если ей будет угодно, несмотря на ее привычки старой девы, по крайней мере до тех пор, пока он не женится. А это событие лежало в неопределенной дали, потому что Артур еще не видел женщины, которая могла бы играть роль супруги образцового деревенского джентльмена.

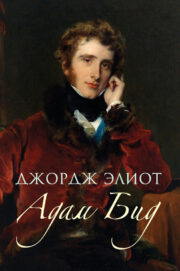
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.