– Но, – говорил Адам, – я видел совершенно ясно с того времени еще, как был молод, что религия и сведения не одно и то же. Так, не сведения заставляют людей поступать справедливо, а чувства. Сведения в религии то же самое, что в математике: человек может быть способен разрешать математические задачи прямо в голове, сидя у камина и куря трубку; но если ему нужно построить машину или здание, то он должен иметь волю и решимость и больше любить что-нибудь другое, нежели свое спокойствие. Так или иначе, приход стал мало-помалу отпадать, и люди начали легко отзываться о мистере Райде. Я так полагаю, в душе своей он думал справедливо, только, видите ли, он был угрюмого нрава и любил сбивать цены у людей, работавших на него, таким образом его проповеди не приходились по вкусу с этою приправою. И ему хотелось быть верховным судьей в приходе и наказывать людей, поступающих дурно; и он бранил их с кафедры просто как Рантер[14], а между тем терпеть не мог диссидентов и восставал против них гораздо больше, нежели мистер Ирвайн. И потом он жил не по своему доходу, ибо с самого начала, казалось, думал, что шестьсот фунтов в год должны были сделать его таким же знатным барином, как мистер Доннигорн, это большое зло, которое мне часто случалось видеть в бедных священниках, неожиданно получивших доходное место. О мистере Райде были высокого мнения люди, смотревшие на него издалека, – я так думаю, потому что он был известен как автор нескольких книг; что ж касается математики и сущности вещей, то в них он был таким же невеждой, как женщина. Он много знал об учениях и обыкновенно называл их оплотами реформации; но я всегда не доверял к такого рода учению, потому что оно заставляет людей быть безрассудными и глупыми в их настоящем деле. Мистер Ирвайн, напротив, был вовсе не похож на него: он был так понятлив, он в одну минуту схватывал, что вы хотели сказать, и знал все, что касалось построек, и мог видеть, когда вы исполняли хорошее дело. И он просто как джентльмен обращался с фермерами, старыми женщинами и работниками, и обращался с ними так же, как с господами. Вы никогда не могли видеть, чтоб он вмешивался во что не следует, бранился и старался разыгрывать роль невесть кого! Ах, он был прекрасный человек, какого ваши глаза редко встречали в жизни, и он так ласково обращался с матерью и сестрами! А эта бедная хворая мисс Анна… он, казалось, думал о ней более, нежели о ком-либо другом на свете. В приходе не было души, которая могла бы сказать слово против него, а слуги оставались при нем, пока уж до того устарели и одряхлели, что он должен был нанять других людей, которые бы исправляли их дело.
– Ну, – сказал я, – это был отличный род проповедования в будни; но я полагаю все-таки, что если б ваш старый друг мистер Ирвайн был снова вызван к жизни и взошел в будущее воскресенье на кафедру, вам, пожалуй, было бы несколько стыдно, что он не проповедует лучше после всех ваших похвал о нем.
– Нет, нет, – сказал Адам, приосаниваясь и откидываясь назад на стуле, будто приготовляясь отразить какие бы то ни было заключения, – никто не слышал, чтоб я говорил о мистере Ирвайне как о значительном проповеднике. Он не вникал в глубокий духовный опыт, и я знаю, что во внутренней жизни человека есть много такого, чего вы не можете вымерить наугольником и сказать «сделай это и затем последует вот то-то» и «сделай то и затем последует вот это». Есть вещи, происходящие в душе, и время, когда чувства входят в вас, как стремительный могучий ветер, как сказано в Священном Писании; они как бы разделяют вашу жизнь надвое, так что вы оглядываетесь на самих себя, как будто вы были кто-нибудь другой. Это вещи, которые вы не можете причислить к разряду таких, где вы говорите «сделай это» и «сделай то»; и в этом отношении я согласен с самыми строгими методистами, каких вы только можете найти. Это показывает мне, что в религии существуют глубокие духовные вещи. Вы не можете понять много, говоря об этом, но вы чувствуете это. Мистер Ирвайн не входил в глубину этих вещей: он говорил краткие нравственные поучения, вот и все. Но зато его поступки всегда согласовались с тем, что он говорил, он не выдавал себя за человека, который сегодня совершенно отличался от других людей, а завтра походил на них, как походят одна на другую две горошины. И он умел заставить людей любить и уважать себя, а это было лучше, чем возмущать их жизнь, вмешиваясь чересчур в их дела. Мистрис Пойзер, бывало, говорила – а вы знаете, она за словом в карман не лезла, – она говорила: «Мистер Ирвайн походил на хороший обед: чем меньше вы думали о нем, тем он был питательнее для вас», а мистер Райд – на прием лекарства: он заставлял вас корчиться и мучил, а между тем не производил много пользы.
– Но разве мистер Райд не больше проповедовал о духовной части религии, о которой вы говорите, Адам? Не могли ли вы больше вынести из его речей, нежели из речей мистера Ирвайна?
– Эх, не знаю! Он много проповедовал о различных учениях. Но я видел совершенно ясно, еще с того времени, как я был молод, что религия есть нечто другое, нежели учения и сведения, на мой взгляд, учения – это все равно, что отыскивать имена для ваших чувств, так что вы можете говорить о них, когда вы их вовсе не знали, точно так же, как человек может толковать об инструментах, когда он знает их названия, хотя бы он никогда и не видел их, а тем менее работал ими. Я слышал в мое время много толкований об учениях: я, бывало, ходил слушать проповеди диссидентов с Сетом, когда мне было лет семнадцать, и меня сильно озадачивали арминиане и кальвинисты. Последователи Весли, как вам известно, самые строгие арминиане; и Сет, который никогда терпеть не мог что-нибудь суровое и всегда надеялся, что все на свете устраивается к лучшему, с самого начала крепко держался учения Весли. Но я думал, что могу пробить несколько дыр в их мнениях, и мне случилось спорить с одним из классных церковных лекторов в Треддльстоне, и я озадачивал его таким образом сначала с одной стороны, а потом с другой, что он наконец сказал: «Молодой человек, это дьявол употребляет вашу гордость и высокомерие орудием войны против простоты истины». Тогда я не мог не рассмеяться, но когда возвращался домой, я раздумал, что он не был неправ. Я начал видеть, что все это взвешивание и исследование, что значит этот текст и что значит тот текст и спасаются ли люди все милостью Бога или в этом участвует и небольшая часть их собственной воли, я видел, что все это не имеет ничего общего истинной религией. Вы можете говорить об этих вещах бесконечное число часов, и вы станете от этого только раздраженным и высокомерным. Таким образом, я решил никуда не ходить, кроме церкви, и не слушать никого, кроме мистера Ирвайна: он говорил одно только доброе да то, что вас делало умнее, когда вы вспоминали о том. И, по моему мнению, лучше для моей души, если я буду смиряться перед таинствами деяний Божиих и не делать никакого шуму о том, чего никогда не буду в состоянии понять. Да и, наконец, не будут ли это одни лишь безрассудные вопросы? Все, что происходит вне нас и внутри нас самих, не исходит ли от Бога? Если мы обладаем решимостью поступать справедливо, то, я думаю, во всяком случае, он дал нам ее, но я вижу довольно ясно, что мы никогда не сделаем этого без решимости, и этого с меня довольно.
Вы замечаете, что Адам был горячий поклонник, может быть, даже пристрастный судья мистера Ирвайна, какими, к счастью, еще бывают некоторые из нас, когда дело коснется людей, которых мы коротко знали. Без сомнения, умы высшего разряда будут смотреть с презрением на это, как на слабость, умы, которые алчут идеала и которых гнетет общее сознание о том, что их чувство слишком возвышенно для того, чтоб найти достойные их самих предметы между обыкновенным человечеством. Я часто пользовался милостью быть поверенным этих избранных натур, и, по моему опыту, они все подтверждают мой опыт, что великие люди пользуются уж слишком большим уважением, а незначительные люди несносны; что если б вы захотели полюбить женщину так, чтоб ваша любовь не показалась вам впоследствии безрассудством, то эта женщина должна умереть в то время, как вы ухаживаете за ней; и уж если б вы хотели сохранить малейшую веру в человеческий героизм, то вы никогда не должны совершать путешествие для того, чтоб увидеть героя. Сознаюсь, я часто уклонялся с робостью от признания этим совершенным и проницательным джентльменам, в чем именно состоял мой собственный опыт. Я опасаюсь, что часто улыбался им с лицемерным согласием и удовлетворял их эпиграммою насчет мимолетного характера наших иллюзий, эпиграммою, которую, впрочем, мог бы легко составить после минутного размышления всякий, хотя сколько-нибудь знакомый с французскою литературою. Но человеческое обращение, как, кажется, заметил один умный человек, не бывает искренно в строгом смысле. И теперь я очищаю свою совесть и объявляю, что я чувствовал полнейший энтузиазм и удивление к старым джентльменам, которые неправильно знали свой родной язык, по временам обнаруживали брюзгливый нрав и никогда не знали высшей сферы влияния, как сфера приходского смотрителя; объявляю также, что средство, при помощи которого я дошел до заключения, что человеческая природа способна быть любимой, – средство, при помощи которого я несколько ознакомился с глубоким пафосом этой природы, с ее возвышенными таинствами, приобрел я, живя много времени среди людей, более или менее обыкновенных и простых, о которых вы, может быть, не услышали бы ничего весьма удивительного, если б вы захотели справиться о них в соседстве тех мест, где они живут. Готов держать пари десять против одного, что большая часть незначительных лавочников, живших в их соседстве, не видела в них решительно ничего особенного, ибо я заметил замечательное совпадение обстоятельств, что между избранными натурами, алчущими идеала и не находящими в панталонах и юбках ничего довольно великого, что могло бы заслужить их уважение и любовь, и самыми ограниченными и мелкими людьми находится странное сходство. Например, я часто слышал, как мистер Джедж, хозяин «Королевского дуба», обыкновенно обращавший завистливый взор на своих соседей в деревне Шеппертон, излагал свое мнение о людях, живших в одном с ним приходе – а ведь он только этих людей и знал, – следующими выразительными словами: «Да, сэр, я часто говорил это и снова скажу: в этом приходе живет ничтожный народ… да, сэр, ничтожный, от мала до велика». Кажется, он имел неясную идею, что если б мог переселиться в отдаленный приход, то, может быть, нашел бы соседей достойных; и действительно, он потом перевел свое заведение в «Сарацинову голову», которая совершала цветущие дела в одной из задних улиц соседнего ярмарочного города. Но, довольно странно, он нашел, что люди в этой задней улице были совершенно на один покрой с людьми в Шеппертоне… «ничтожный народ, сэр, от мала до велика; и те, которые приходят за рюмкой джина, не лучше тех, которые приходят за пинтою двухпенсовой… ничтожный народ, сэр».

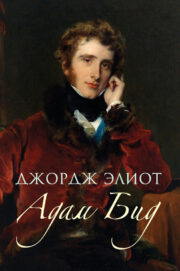
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.