– Вот вы и ошибаетесь, Крег, – сказал Бартль сухо, – вы ошибаетесь в этом. Вы знаете больше толку в вашем деле садовника, чем в этом: вы выбираете вещи по тому, в чем они отличаются. Вы не станете высоко ценить горох за его корни или морковь за ее цвет. Вот таким же образом вам следовало бы смотреть и на женщин: их ум никогда не приведет ни к чему, между тем как простенькие будут отличные, спелые и благоуханные.
– Что ты скажешь на это? – спросил мистер Пойзер, откидываясь назад и весело смотря на жену.
– Что скажу! – отвечала мистрис Пойзер, и в ее глазах заблистал опасный огонь. – Я скажу то, что у некоторых людей языки словно часы, которые беспрестанно бьют не для того, чтоб показывать время дня, а потому, что их внутренность несколько испорчена…
Мистрис Пойзер, вероятно, довела бы свое возражение до больших пределов, если б внимание всех не обратилось в эту минуту на другой конец стола. Лиризм, пробудившийся здесь сначала только в том, что Давид пел sotto voce: «Моя любовь – роза без шипов», мало-помалу принял оглушающий и более общий характер. Тим, невысоко ценивший вокализацию Давида, чувствовал потребность заменить это слабое жужжание тем, что громко запел «Три веселые сенокосца»; но Давида нелегко было принудить уступить, он хотел доказать, что имел способности к большому crescendo, так что становилось сомнительным, роза ли останется победительницею или победят сенокосцы, как вдруг старик Кестер, с совершенно твердым и непоколебимым видом, присоединился к пению с своим дрожащим дискантом, словно будильник, для которого наступило время бить.
Общество на том конце стола, где сидел Алик, это общество, не будучи заражено музыкальными предрассудками, считало это вокальное увеселение нисколько не выходящим из порядка вещей. Но Бартль Масси положил трубку в сторону и заткнул уши пальцами, а Адам, имевший желание уйти, лишь только услышал, что Дины не было в доме, встал с своего места и сказал, что должен пожелать всем спокойной ночи.
– Я пойду с вами, мой друг, – сказал Бартль, – я пойду с вами, пока еще у меня не лопнули уши.
– Я пойду кругом чрез общее поле и зайду к вам, если хотите, мистер Масси, – произнес Адам.
– Прекрасно! – сказал Бартль. – В таком случае мы можем немного потолковать друг с другом. Уж я давно не могу захватить вас к себе.
– Эх, как жаль, что вы не хотите посидеть с нами до конца! – сказал Мартин Пойзер. – Они скоро все разойдутся, хозяйка не позволит им остаться позже десяти.
Но Адам не хотел изменить своего решения; таким образом, два друга пожелали всем доброй ночи и отравились вместе в путь при свете звезд.
– Моя бедная дурочка Злюшка, верно, плачет обо мне дома, – сказал Бартль. – Я не могу взять ее с собой сюда из опасения, чтоб ее не сразил глаз мистрис Пойзер, после чего бедняжка навсегда осталась бы калекою.
– А мне так никогда не бывает нужно гнать Джипа назад, – сказал Адам, смеясь, – он тотчас же вернется домой, лишь только заметит, что я иду сюда.
– Я не верю! – сказал Бартль. – Ужасная женщина!.. Вся из иголок, вся из иголок. Но я держу сторону Мартина, всегда буду держать сторону Мартина. И он, Бог с ним, любит эти иголки: он точно подушка, которая сделана собственно для них.
– Несмотря на то, она, однако ж, прямая, добрая женщина, – сказал Адам, – и верна, как дневной свет. Она немного сердится на собак, когда они хотят забежать в дом; но если б они принадлежали ей, она заботилась бы о них и кормила бы их хорошо. Язык у нее острый, но сердце нежное: я убедился в этом в дни горя. Она одна из тех женщин, которые лучше в действительности, чем на словах.
– Хорошо, хорошо, – заметил Бартль, – я не говорю, чтоб яблоко было нехорошо внутри, только кисло, набьешь оскомину.
LIV. Встреча на горе
Адам понял, отчего Дина поспешила уехать, и ее отъезд заставлял его скорее иметь надежду, чем предаваться отчаянию. Она опасалась, чтоб сила ее чувства к нему не помешала ей верно выждать и выслушать окончательное указание внутреннего голоса.
«Жаль, однако ж, что я не попросил ее написать мне, – думал он. – А между тем даже это, может быть, обеспокоило бы ее несколько. Она хочет остаться совершенно спокойною по-прежнему на некоторое время. И я не имею права быть нетерпеливым и мешать ей своими желаниями. Она сказала мне, в каком состоянии ее сердце, а она не из тех, которые говорят одно, а думают другое. Я буду ждать терпеливо».
Таково было благоразумное решение Адама, и оно поддерживалось успешно в продолжение первых двух или трех недель воспоминанием о признании Дины в то воскресенье после обеда. Удивительно, что за сильную поддержку имеют первые немногие слова любви! Но около половины октября его решимость, видимо, стала слабеть и обнаруживала опасные признаки совершенного исчезновения. Недели казались ему необыкновенно длинными. Дина, конечно, имела довольно времени, чтоб решиться. Пусть женщина говорит, что хочет: после того как она однажды сказала мужчине, что любит его, он находится в слишком взволнованном и восторженном состоянии от этого первого упоения, которое он получает от нее, и не может заботиться о последующем. Он ходит по земле весьма эластическим шагом, когда удаляется от нее, и все трудности считает легкими. Но подобный жар исчезает; воспоминания грустно ослабевают со временем, не имеют достаточной силы, чтоб оживить нас. Адам уж утратил свою прежнюю уверенность: он стал опасаться, что прежняя жизнь Дины, может быть, снова овладела ею в такой степени, что новое чувство не могло восторжествовать. Если б она не чувствовала этого, то непременно написала бы к нему, чтоб хотя несколько успокоить его; но так, казалось, она считала нужным привести его в уныние. Вместе с уверенностью исчезало и терпение Адама, и он думал, что ему нужно написать самому; он должен просить Дину, чтоб она не оставляла его в тягостном сомнении долее, чем было необходимо. Однажды вечером он просидел поздно за письмом к ней, но на следующее утро сжег, опасаясь действия, которое оно произведет. Тягостнее было получить лишающий всякой надежды письменный ответ, чем услышать такой же ответ из ее уст, потому что ее присутствие заставляло его соглашаться с ее волею.
Вы замечаете, в каком положении находилось дело. Адам жаждал увидеться с Диной; и когда такого рода желание достигает известной степени, то очень вероятно, что влюбленный решится утолить его, хотя бы ему пришлось поставить на карту все будущее.
Но может ли он причинить какой-нибудь вред, если отправится в Снофильд? Дина не может рассердиться на него за это, она не запрещала ему прийти туда; она, вероятно, ожидала его, и ему следовало навестить ее уже давно. Во второе воскресенье в октябре точка зрения на это дело так прояснилась для Адама, что он уже был на дороге в Снофильд. В то время он отправлялся туда верхом, потому что время было ему дорого, и он занял для путешествия хорошую лошадку у Джонатана Берджа.
Сколько болезненных воспоминаний пробуждала в нем эта дорога! Он часто ездил в Окбурн и часто возвращался оттуда после того первого путешествия в Снофильд, но за Окбурном серые каменные стены, изрытая земля, скудные деревья, казалось, снова рассказывали ему историю тягостного прошедшего, которое он знал так хорошо наизусть. Но никакая история не остается для нас той же самой по прошествии известного времени, или скорее мы, читавшие, не остаемся теми же самыми истолкователями. И в это утро Адам имел новые мысли, проезжая по серой стране, – мысли, придавшие уже изменившееся значение истории прошлого.
Та низкая, себялюбивая и даже богохульная душа, которая с благодарностью радуется прошлому несчастью, уничтожившему или раздавившему другого, потому что это горе стало источником непредвиденного добра для нас самих. Адам никогда не переставал сокрушаться о тайне человеческого страдания, которая пала так близко от него; он никогда не мог благодарить Бога за несчастье, обрушившееся на другого. И даже если б я был способен чувствовать эту узкую радость за Адама, я все-таки знал бы, что он сам не чувствовал ее; он покачал бы головою при таком ощущении и сказал:
«Зло остается злом и горе горем, и вы не изменили бы его свойства, если б облекли его в другие слова. Другие люди не были созданы ради меня, и я не должен думать, что это все равно, лишь бы только выходило хорошо для меня».
Но не низко чувствовать, что более полная жизнь, принесенная нам грустным опытом, заслужена нашей собственной личной долей страдания. Конечно, и невозможно чувствовать иначе, все равно как человеку с катарактом невозможно сожалеть о страшной операции, посредством которой его слабое, помраченное зрение, представлявшее ему людей деревьями, стало ясно отличать очерки и лучезарный день. Развитие высших чувств в нас самих похоже на развитие способностей: оно приносит с собою сознание увеличившейся силы; мы не можем желать возвращения к более узкому сочувствию, как живописец или музыкант не может желать возвращения к своей более несовершенной манере или философ – к своим менее полным формулам.
Что-то подобное сознанию расширившегося существования было в душе Адама в то воскресенье утром, когда он ехал верхом, при живом воспоминании минувшего. Его чувства к Дине, надежды провести жизнь с ней были отдаленной невидимой точкой, к которой привела его та тягостная поездка из Снофильда восемнадцать месяцев назад. Как ни была нежна и глубока его любовь к Хетти – а она была так глубока, что корни ее не будут вырваны никогда, – его любовь к Дине была лучше и драгоценнее для него, она выросла из полнейшей жизни, которая развилась для него из того, что он ознакомился с глубоким горем.
«У меня будто является новая сила, – думал он, – оттого, что я люблю ее и знаю, что она любит меня. Я буду всегда смотреть на нее как на свою путеводительницу к добру. Она лучше меня: в ней меньше себялюбия и тщеславия. А это чувство, когда вы можете больше ввериться другому, чем самому себе, придает вам некоторого рода свободу, и вы можете идти к своей цели без страха. До этих пор я всегда думал, что знал все лучше, чем окружавшие меня, а это жалкий род жизни, когда вы не можете надеяться, что ваши ближние помогут вам в каком-нибудь деле лучше, нежели вы сами в состоянии помочь себе».

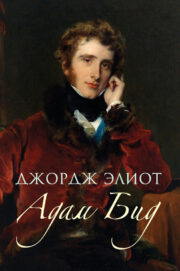
"Адам Бид" отзывы
Отзывы читателей о книге "Адам Бид". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Адам Бид" друзьям в соцсетях.