Иви закрыла глаза. Милой старушкой была Белл О'Брайен. Такая отзывчивая, смешливая, озорная, всегда источавшая аромат роз и едва уловимый запах джина. Она была частью Ивиного детства. Когда-то давно, в двадцатые годы, Ивина бабушка и Белл сидели за одной партой в дублинской школе при женском монастыре; потом также рядом — на пароме, увозящем их в Англию, но уже двадцатилетние, хихикающие, голубоглазые.
Однако цели у этих двух молодых дам были совсем разные. Бабушка хотела стать просто медсестрой. Ее мастерство и навыки оказались невостребованными из-за замужества и груза материнских забот. А Белл ничто не мешало осуществить ее мечту. После первого же похода в пантомиму, будучи еще крошкой, она решила, что будет артисткой. Там, где не хватало таланта, спасали красота и задор, и так она исколесила всю страну, не пропустив ни одной театральной площадки. Постоянно в гастрольных поездках, в пьесах и мюзиклах, она не теряла связи со старой подругой. Так и не став звездной, карьера актрисы пошла на убыль еще до того, как бабушка, овдовев и вырастив детей, вновь обрела свободу.
Теперь две старушки вновь смогли проводить вместе много времени; Иви узнала Белл именно в этот период. Щедро усыпанной веснушками, с вечно торчащими вихрами семилетней Иви разрешалось наряжаться во все старые театральные костюмы Белл, накладывать толстый слой театрального грима, который все еще хранился в хрупких блестящих упаковках.
Белл и бабушка были единственными людьми, которых Иви посвятила в свою мечту стать актрисой. Старушки признали эту идею великолепной и составили ту самую восторженную аудиторию, которая восхищалась мелодраматическими импровизациями на темы принцесс, ведьм, грабителей банков и наследниц Викторианской эпохи. Представления проходили в подвале дома Белл, который в Ивиных воспоминаниях остался по-театральному меблированным, с вельветовыми шезлонгами и страусовыми перьями; где все утопало в ярких и насыщенных красках. Три верхних этажа, разделенные на отдельные квартиры, сдавали жильцам, и Иви помнила, как иногда бабушка по дороге домой, держа ее за руку в варежке, сетовала по поводу того, что эти жильцы «сосут Беллину кровь». Иви дрожала от страха и восторга, недоумевая, что бы это могло значить.
Потом ее любимая, забывчивая, со своей вечной сумочкой и необъяснимой преданностью Тэрри Вогану бабушка уехала и умерла. Ивина мама смертельно обиделась на Белл (проявив при этом такую активность, которая необходима разве что для победы на Олимпийских играх). А все из-за того, что Белл не пришла на похороны, объяснив это тем, что ей хотелось бы вспоминать свою любимую подругу живой и счастливой. Все понятно даже ребенку. Но разобиженная Ивина мама оседлала своего любимого конька, и с тех самых пор Иви никогда больше не видела Белл. Если уж быть до конца честной, то даже не вспоминала о ней в течение нескольких лет.
До сегодняшнего дня.
Бинг сворачивал письмо. Плечи его уныло опустились.
— Гммм… Странное условие. Что за забавная старушенция?!
— Она была замечательная, — сказала Иви просто. — Кажется, я поняла, что она имела в виду.
— Не могу сказать того же о себе. У меня создается впечатление, что она, оставив тебе кое-что ценное, постаралась все так ловко обстряпать, чтобы ты от этой ценности не получила никакой выгоды.
Но Иви полагала, что ей виднее.
— Слушай. Мне нужно кое-что сделать. Ты занят сегодня вечером?
— Да. Сегодня вечером я отдаю всего себя лондонской сцене.
Бинг пел в хоре в последней обновленной постановке «Джозефа». Он добавил:
— Я вернусь домой с пиццей, и мы все это как-нибудь обмозгуем. Идет?
Очень даже идет. Поцелуй, легкий аромат «Пако Рабана» — и Бинг исчез.
Иви отыскала станцию метро и купила билет до Сурбитона. Или, как она про себя называла это местечко, до Ворот Ада. Именно в Сурбитоне проживали ее родители.
Однако не истолкуйте превратно мысли Иви о Бриджит и Джоне Крампах. Никто из окружающих не связывал Виллоудинские Сады с преддверием подземного царства. Да и сама Иви была рабски предана своему курящему трубку и облаченному в удобный кардиган папе. Но упрямой, мало чего достигшей младшей дочери, Бриджит Крамп просто невозможно было разглядеть в матери всеми уважаемую даму, непреклонную, но с хорошими манерами, то есть такую, какую умудрялись видеть в ней окружающие. Иви она казалась посланцем Ада.
— Привет, чужестранка! — открыв дверь, агрессивно выкрикнула Бриджит. — Чем обязаны такой чести?
— Привет, мам. Мне нужно кое о чем поговорить с тобой и папой.
— О чем? — Бриджит в тревоге схватилась за дверь, тряпка выпала у нее из рук. — Что-то с работой? Денег нет? Мужчина? Ты, случайно, не…? — Она в ужасе оглядела Ивин живот.
— Э-э… мне можно войти?
Производя всестороннее предварительное очищение обуви на коврике у порога (что было непреложным условием для пожелавшего войти в дом номер двадцать пять), Иви пыталась успокоить маму:
— Не волнуйся. Я полагаю, у меня все в порядке.
— Тогда проходи. Ты застала меня врасплох, поэтому все в таком беспорядке.
По ее представлениям, все было в идеальном порядке. Судмедэкспертам, наверно, пришлось бы очень туго, если бы потребовалось доказать, что в этом помещении живут люди.
— Чай? — В вопросе Бриджит звучала уверенность ирландки во втором поколении; вопрос больше походил на приказ. — Присаживайся, а я пока посмотрю, что у нас имеется…
Стиль и язык — чисто дублинские, перешедшие от бабушки, а вот акцент — по-местному сглаженный.
В ирландском доме никогда не подают просто чай. Он сопровождается кулинарными изделиями или маленькими бутербродиками. В этот необычный день перспектива выпить чашечку чая со всякими такими штучками показалась Иви довольно заманчивой. Гораздо меньше успокаивал провоцирующий мигрень ковер в завитушках, несметное количество скляночек с ароматизаторами и мистическое мерцание оранжевых лампочек внутри фальшивого камина с искусственными угольками. Иви опустилась на удобную до неприличия софу, стараясь не нарушить порядок артистично разложенных подушек. Отчаянная борьба Бриджит Крамп за порядок в доме сводилась к тому, чтобы сделать жизнь шикарной, а изобилие подушек представлялось ей настоящим шиком. Ароматизаторы же хоть шиком и не считались, стояли на каждой отполированной до блеска поверхности.
— Будешь булочку с сосиской? — крикнула Бриджит через жалюзийную дверь, которая вела в кухню.
— О нет, мам, это слишком много.
— Ничего, съешь. Она крошечная. Ее и не видно. Посмотри! — Бриджит высунула булочку из-за двери.
— Ну давай. — Сопротивление бесполезно. Бриджит стремилась накормить каждого оказавшегося под ее крышей, будто он прибыл из голодного края. Сантехники, мойщики окон, свидетели Иеговы — все выходили от нее отяжелевшими, с крошками на губах.
Пустое продавленное кресло у камина красноречиво свидетельствовало о том, что мужской половины нет дома.
— Где папа? — поинтересовалась Иви, в то время как ее мама лавировала с подносом между столиками и всевозможными пуфиками.
— Сегодня его очередь работать в саду.
В ранг сада было возведено не что иное, как небольшой поросший травой кусочек земли, на территории которого разместились мусорные бачки и обвисшие бельевые веревки. Иви быстро перевела эту информацию на нормальный язык: «Отец улизнул на улицу, чтобы выкурить трубку, так как я, бессердечная старая карга, не разрешаю ему курить в доме».
— Ну а теперь, — сказала Бриджит примиряюще, — что за важная новость?
— Генри! — Иви соскользнула на колени и обвила руками толстую шею старой черной дворняги, которая только что неспешно вошла в комнату. Она была глуха к мамочкиным воплям:
— Ах нет! Сейчас весь джемпер будет в волосах! Даже если вещь недорогая, зачем же ее портить!
— О Генри, Генри, Генри! — повторяла Иви, которая не встречала в своей жизни особи мужского пола, способной на такую преданность и верность, как Генри.
Но что-то было не так. Какая-то грусть в глазах Генри. Он казался подавленным, почти пристыженным.
— Генри, что случилось? — Иви отстранилась, охваченная паникой, и как следует рассмотрела Генри. — Боже, Генри, ты — чист!
— Насколько тебе известно, он всегда чистый, — бросила Бриджит. — Можно есть из его тарелки. Он самый чистый лабрадор в Сорбитоне.
Итак, Генри тоже получил повышение. Может, в нем и было что-то от лабрадора, но уж очень сильно разбавленное. Он был самой обыкновенной чистокровной дворнягой. Более того, он был дворнягой, никогда ранее не имевшей представления о воде и мыле. Фактически, присущее исключительно Генри благоухание было катализатором разраставшейся коллекции скляночек с ароматизаторами. Вымытый, он выглядел маленьким и провинившимся.
Иви кольнуло неприятное предчувствие.
— Мам, я надеюсь, ты не…
Одним прыжком она подскочила к месту Генри, которое находилось за софой.
— Ах, мама, ну зачем же ты…
Это было жестоко даже по завышенным стандартам Ивиной мамы. Она выстирала джемпер Генри, тот самый, на котором он спал, еще будучи щеночком. И этот ветхий, старый, полосатый джемпер теперь лежал так аккуратненько сложенный, как будто он находился не в корзинке Генри, а на полке магазина «Гэп».
Всему этому могло быть только одно объяснение:
— Кто должен пожаловать в гости?
— Бет с близнецами. И Маркус.
Маркус у нее прозвучало как Персидский шах, хотя на самом деле он был всего лишь зубным врачом и мужем Ивиной сестры. Бриджит боготворила Маркуса за его представительный вид, безупречно шикарный акцент и, конечно же, за то, что если бы не он, Маркус, жизнь ее старшей дочери не протекала бы в четырех гостиных, пяти спальнях, трех ваннах (одна с бассейном) и в саду внушительного размера близ Хенли. Иви никогда не заходила с Маркусом дальше короткой беседы (для нее мужские галстуки были непреодолимым препятствием), однако он ей нравился.

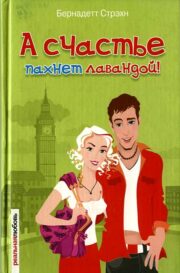
"А счастье пахнет лавандой!" отзывы
Отзывы читателей о книге "А счастье пахнет лавандой!". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "А счастье пахнет лавандой!" друзьям в соцсетях.